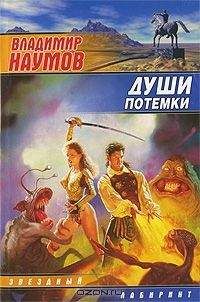Феликс Рахлин - Записки без названия
Кровь стынет.
Поэтому отец завернул "орудие террора" в тряпочку, положил в карман и, гуляя со мной по городу, выкинул его с моста в одну из тухлых харьковских речушек – вместе с полной обоймой и с пригоршней хорошеньких патрончиков.
Наверное, останки именного оружия лежат и сейчас на дне Лопани в густом вонючем иле.
Что даст эта находка грядущим археологам? Разъяснит ли она потомкам наше темное, рачье время?
Елка
Лет четырех я заболел, и ко мне позвали врача. Пришел однорукий веселый доктор.
– Где ваша вторая рука? – спросил я, и доктор с готовностью рассказал мне всю правду:
– Мою вторую руку отгрызли сорок собак!
Доктор сказал, что у меня грипп. Но вечером пришлось срочно вызывать "частника" – педиатра Валицкого: так мне стало плохо. В ожидании его визита я сам отверг предыдущий диагноз, заявив маме:
– Это не грипп – это какая-то другая болезня…
Валицкий приехал, задрал на мне рубашку и, едва глянув, вынес приговор:
– Скарлатина!
В то время это была болезнь не только опасная (нередко от нее умирали – вспомним "Смерть пионерки" Эдуарда Багрицкого: "Тоньше паутины из-под кожи щек тлеет скарлатины смертный огонек"), но и очень продолжительная: если не умер – в больнице пролежишь сорок два дня: даже больше, чем количество собак, отгрызших руку у веселого доктора.
Меня везли в "карете скорой помощи" по вечернему или ночному Ленинграду. То и дело свет витрин заполнял машину и тогда мне казалось, что она становится шире. А потом темнота вновь сжимала ее.
Утром я проснулся в палате. Изголовьями к стене поперек длинной комнаты стояли в один ряд койки с детьми – думаю, штук десять – двенадцать.
Одна нахальная крикунья девочка то и дело горланила во всю мочь:
– Ка-а-кать! Пи-и-сать!
Поначалу это шокировало меня, так как я привык к эвфемизмам. Но так же, как она, просились все, и я последовал их примеру.
Вскоре или не вскоре – не знаю (меры времени для меня тогда не существовало) взрослые стали готовить для нас новогодний праздник. В проходе между противоположной стеной и койками поставили елку – первую в моей жизни! До середины
30-х годов этот праздник находился как бы под действием большевистского моратория. "Как бы", – потому что никто его не запрещал, но и праздновать было не принято: в советской и партийной среде его отождествляли с религиозностью, о ленинских елках времен военного коммунизма и Горок что-то в то время не было слышно. Елка прочно сочеталась в сознании с рождеством, сочельником и чем-то полуцерковным, обрядовым.
Но как раз ко времени моей скарлатины мораторий испарился, и вот в нашей палате появилось деревцо – "лесная гостья", как сказали бы теперь мои собратья-газетчики.
Елочных игрушек тогда еще в магазинах не продавали. Поэтому на ветвях больничные нянечки развешали конфеты и пряники. Детям объявили, что под Новый год гостинцы будут сняты с елки и розданы.
И надобно же тому случиться – как раз в канун заветного дня мне родители принесли передачу: не только конфеты и печенье, но даже апельсины. сомневаюсь, чтобы кто-либо из ребят в этой больнице получил такой царский подарок.
Взрослые (служители медицины) решили, как видно, восстановить социальную справедливость. Когда гостинцы были срезаны с елки, их вручили всем детям, кроме меня. Одна нянька (или врачиха: разницы между ними я в то время не разбирал) так и объяснила:
– Гляди, у тебя сколько всего, а у них нет.
Так я, сын матери, активно участвовавшей в экспроприации имущества буржуазии в 1917 – 1919 гг., и отца, успешно обосновавшего в вузовском учебнике политэкономии необходимость и моральность такой экспроприации, изведал на себе всю силу социальной справедливости.
Я ревел от обиды и зависти, глядя на детей, жевавших пряники с елки. Прежде чем их съесть, дети игрались ими, любовались мраморными разводами глазури, хвастали друг перед другом, чей пряник лучше. А уж потом – уплетали.
Я же остался один на один со своими распостылыми апельсинами, и не было утешения моему наигорчайшему горю!
Прошло еще сколько-то дней, и меня перевели в крохотную палату. Был там еще один ребенок, мы болтали, смеялись, кидались подушками…В нашу палату внесли кроватку с младенцем, долго над ней колдовали, а утром сказали: "Умер" – и затихшего младенца унесли. Мы продолжали резвиться за решетками своих кроваток как ни в чем не бывало: понятия о смерти еще не было в наших ребячьих душах…
Уж потом, много позже, узнал: перевели меня в эту палату тяжело больных из-за начавшегося осложнения болезни…
Однажды вечером отворилась дверь палаты, и в ярко освещенном коридоре я увидал маму.
Я заплакал от счастья. Меня вынесли, передали ей на руки – теплые, полузабытые, одные, мамины.
Больница кончилась.
Среднее ухо
Дома я всех очень удивил своим бесшабашным поведением и оголтелыми криками: "Какать! Писать!"
Понадобилось время, чтобы ввести меня в прежнюю колею и заставить выражаться парламентарно: "По-маленькому! По-большому!".
(Лет через десять мой приятель-одноклассник расскажет мне об одной семье, где ребятишек научили проситься только по-французски:
"Пур ле гран" и "Пур ле пти"!).
Мне купили новый горшок, потому что прежний был уже маловат. Горшок был такой новенький, блестящий и симпатичный, что я немедленно нахлобучил его себе на голову. У взрослых почему-то вытянулись лица, а я и теперь не понимаю, чего они ужасались: посудина-то новенькая была, "ненадеванная!"…
Вижу себя сидящим на своем новом зеленом горшке, поставленном на стул посреди комнаты. На пол становиться запрещено: у меня воспаление среднего уха.
Сижу и размышляю: у человека два уха, и оба – крайние. А где же среднее? Оказывается, внутри – в голове. Болит отчаянно – ночью не сплю, и боль немного успокаивается только от грелки.
Часто ходят врачи с кругленькими дырчатыми зеркалами над головой, заглядывают мне в ухо при помощи маленькой воронки, и я слышу страшные слова: "Видно, придется делать прокол".
Однажды вечером приходит здоровый мужик с зеркалкой на лбу, в руках – футляр с инструментами. Кроватку мою выдвигают на средину комнаты – под лампу. По обе стороны садятся папа и мама и с напряженными, красными от волнения лицами вцепляются в меня, держат за руки, а доктор достает из футляра длинную трубочку с иглой на конце.
Взревев от страха, рвусь из цепких родительских объятий, поворачиваюсь то к одному, то к другому, умоляю:
– Ну, папочка! Ну, макмочка!
Доктор подходит к темному окну и очень ловко свистит по-милицейски:
– Тр-рп-р-р-р-р! Тр-р-р-р-р-р-р!
Успокаиваксь на минуту, но не из страха перед милицией (у нас в семье детей Советской властью не пугали!), а просто от удивления имитаторским искусством ушника. Но едва он берется за иглу – опять рвусь и кричу.
В конце концов, они одолели меня. Чувствую в глубине левого уха мгновенную пронзительную боль – и немедленное облегчение, заставившее меня от бурного плача вдруг перейти к счастливому смеху.
Проходит несколько дней. Я выздоравливаю. Ко мне приходит совсем другой врач – женщина, я без малейшего страха извлекаю из ее инструментария знакомого вида шприц и глажу его, как сытого удава.
(Если бы я мог тогда знать, какой трагедией оборачивается зачастую такое вот воспаление, неудачный прокол! На пятом десятке лет мне довелось поработать длительное время в школе-интернате для тугоухих детей. Там много вот таких: с последствиями гнойного отита. И настоящая беда – даже не в физической утрате слуха, а в тех почти неизбежных последствиях, какие она влечет за собой для ребенка. Взрослый, утратив слух даже полностью, не столь несчастен, так как у него сохраняется речь, и он уже не забывает ее до конца дней своих. Но у ребенка, пусть и с частичной потерей слуха, речь, даже уже усвоенная, в той или иной степени разрушается, и при отсутствии педагогической коррекции, он обречен на неполноценное умственное развитие. Большинство людей – в том числе и вполне образованные – этого не знают и к частичной утрате ребенком слуха относятся легкомысленно: "подумаещь, чуть-чуть недослышит…" А от этого "чуть-чуть" порою зависит потом вся дальнейшая жизнь).
Через 12 лет после той болезни врач медкомиссии военкомата, где наш класс проходилд воинскую приписку, заглянула в мое левое ухо – и спросила:
– Что, делали прокол?
– Да, в четыре с половиной года, – ответил я.
– Молодец, – сказала врачиха, как будто заслуга принадлежала мне, а не родителям и тому доктору, который умел свистеть, как милиционер…
Вот спасибо этому человеку: благодаря его искусству, я м на решающей медкомиссии все прекрасно услышал, был призван в Советскую Армию и отправился служить на Дальний Восток.
Искусство и литература – I
Черное море, белый пароход…
Сяду – поеду на Дальний Восток!
Так пел я, когда был малышом, и даже не подозревал, до чего точно пророчу себе – если не вид транспорта, то направление и маршрут. В армию нас везли не белыми пароходами, а красными "телятниками" – товарными вагонами. Как по хрестоматии: "40 человек или 8 лошадей".