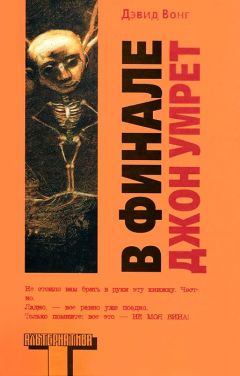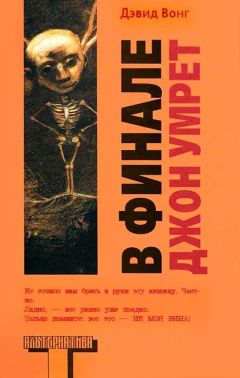Александр Любинский - Виноградники ночи
Они еще не уехали, и хочется зарыться в складки ее платья, вдыхать ее запах, пока не прозвучит неотменяемо-требовательное: «Тея, пора!» В тот день они уехали не сразу, потому что пошел дождь, и они спрятались под грибком. Они уже поцеловали меня на прощанье, воспитательница загнала нас всех в дом. И вдруг пошел дождь. Такой сильный, что они не могли выйти, и я видел в окно их смутные очертанья, размытые дождем.
В то лето часто шли дожди, и заросли крапивы по краям тропинки, по которой нас вели к озеру, были высокие-высокие, даже выше меня. Нас приводили на большую поляну у озера, воспитательница раздевалась и плавала в резиновой шапочке, из-под которой выбивались светлые волосы. Она выходила из воды, и ее ноги были все в голубоватых пупырышках. Она была похожа на женскую фигуру в трусиках и лифчике, что стояла у входа в лагерь, наклонившись, с круглой тарелкой в руке. Вместо другой руки торчала ржавая проволока.
Воспитательница, встав на табуретку, наклеивала на окна вырезанных из бумаги голубей и красные флажки. Где-то далеко-далеко, в Москве — фестиваль… Фестиваль, это когда много голубей и флажков, повсюду — музыка, и шары взлетают в высокое небо. В сентябре я должен стать первоклассником. Накануне отъезда воспитательница спросила: «Кто этой осенью пойдет в школу?» И тем, кто пойдет, дала добавку винегрета.
Мина жила на Земляном валу в московском переулке, застроенном кое-как серыми и желтыми доходными домами уже позапрошлого века. В начале переулка возвышается огромный дом в стиле сталинского ампира. Фасадом он выходит на Садовое кольцо и сплошь увешан памятными досками. Когда мы шли в гости к Мине, я читал надписи, и когда шли обратно, тоже читал. В те годы я читал все подряд: вывески, афиши, обрывки газет, если они попадались на глаза. Я застывал с полурасстегнутой рубашкой или ложкой, поднятой ко рту, я останавливался посреди улицы. Толстый том «Братьев Гримм» был давно выучен наизусть, сказки и истории про Незнайку навевали скуку… Однажды у Мины на полке ее этажерки, где вперемежку лежали старые журналы и календари, я натолкнулся на книгу с оторванным корешком. Я сел на кожаный диван у окна — свет был скуден, поскольку в подвальное окно Мининой комнаты проникал с трудом — и стал читать. Было светлое жаркое утро в другой стране и красивый дом среди старинного парка. Слуги обнаружили убитого солдата. Он лежал возле стены, над ним кружили мухи. Пришел старый князь, хозяин дома, и приказал убрать мертвого. Он пролежал уже несколько дней. Ноги прохожих, мелькавшие в окне, то и дело заслоняли свет и мешали читать. Но все же я успел узнать, что старый князь, раздраженный и грустный, вернулся в свой кабинет. Он решил отправиться в путешествие. И я решил поехать вместе с ним, потому что мне стало жалко князя — он был очень одинок. Но подошла мама и закричала: «Опять ты лезешь не туда! Почему ты всегда забегаешь вперед? Это взрослая книга!» «Тея, — сказал отец, — все сидят за столом и ждут только тебя». «Иду уже, Залман, иду», — сказала мама и ушла, взяв с собой книгу. Я сидел на диване и смотрел в окно. Видна была узкая светлая полоска, мелькали ноги, скрипел снег. Меня позвали в соседнюю комнату, где горело электричество и было душно от смеха и разговоров, и усадили за длинный стол. Они все сидели за столом: полная Мина в просторном платье, величественная бабушка с шалью на плечах рядом с молчаливым дедом в новом коричневом костюме, и отец с матерью. Все стали просить: «Ребекка, спой». И бабушка запела — чистым и высоким голосом — о старом парке и о том, что годы летят, и в парке кружатся осенние листы, но сердце по-прежнему молодо. А я видел другой парк в другой стране — весь пронизанный солнечным светом. Там у стены лежал мертвый солдат, и над ним кружили мухи. «Ты ничего не ешь, — сказала мама, — вот что значит, читать книги не по-возрасту! Ешь сейчас же!» «Мина, — сказала бабушка, — я знаю, тебя бесполезно просить. И все же, сегодня твой день рожденья. Доставь нам удовольствие». Мина смущенно улыбнулась. «Ну Мина, пожалуйста, — сказала мама, — хоть раз в году!» Мина подняла голову и, отвернув лицо, запела. И показалось, что меня уносит поток — огромный, стремительный, он течет сквозь меня, сквозь нас всех, а потом ничего уже не было, кроме все плавящего, всюду проникающего голоса, и все стало одно: душная комната с оранжевым абажуром под низким потолком, утренний свет в парке, мухи над трупом, одинокий старый князь… И все это жило во мне — чудно и совсем нестрашно. Я поднял голову: бабушкино лицо застыло как маска, и по нему текли слезы. При виде ее слез мне тоже захотелось плакать. Но в этот момент Мина повернула лицо и улыбнулась. Голос не звучал, и это уже была прежняя молчаливая и тихая Мина. «Почему ты не училась, ну, почему? Тебе нужно было учиться! Ты бы могла петь на лучших сценах!», — воскликнула мама. «Не до того было. Сама знаешь, в какие мы жили времена, — сказала Мина. — Ну что, пора ставить чай?»
Я сижу на стуле у ворот и смотрю на улицу. Мелькают люди и машины на фоне одной и той же, изо дня в день повторяющейся картинки: серый фасад колледжа, забор и правее — старое здание больницы Ротшильда. Оно белое с лепниной под крышей, а над ней — густые темно-зеленые ветви огромного платана. Пешеходы перешагивают через рамку картины, перерезающую улицу от проходной колледжа до моих ворот, и спешат мимо меня, чтобы переместиться в иное временное измеренье за моей спиной. Они уже в будущем, а я лишь наблюдаю этот мгновенный и плавный переход. Я живу в вечности, в вечном настоящем, в момент перехода от прошлого — к будущему. Мой мобильник безликим голосом диктора сообщает об ураганах и тайфунах, терактах, пожарах, обвалах в шахтах, землетрясениях, катастрофах на транспорте… А мимо меня в такт этим сообщениям спешат люди, мчатся наперегонки машины, словно самим этим безостановочным движением раскручивая колесо несчастий. В старом парке кружат листы, кружит, кружит пустая карусель и музыка из репродукторов, подхваченная ветром, громыхает в осенних аллеях. Я люблю тебя, мой старый парк, как я люблю тебя! Подступают сумерки, и лишь скамейки светлыми пятнами пестрят темноту, в аллеях вспыхивают желтые огни, и небо над Невиим медленно гаснет — вот-вот зажжется звезда над зданием Биньян Клаль и появится луна, мертвым оком доисторического зверя восстающая над горами. В этот час жизнь превращается в черно-белое кино — мелькают кадры, верещит мотор. Мимо меня по Невиим идет молодой человек в шляпе, надвинутой на лоб. Он идет торопливо и даже слегка подпрыгивает — потому что пленка кружит медленнее, чем жизнь.
Тонкий, надрывный звук. Раву Мазиа не спится в ночи. Мне тоже не спится. Где я сейчас? У ворот ресторана, в своей ли комнатке за компьютером, или вместе с Марком приоткрываю железные, покрытые облупившейся синей краской ворота? Мне хочется хоть на миг остановить вращение пленки: рав Мазиа приподнял смычок, мой палец завис над клавишей компьютера. Итак, Марк вошел во двор и остановился…
Марк вошел во двор и остановился. Справа от него был вход в каменный двухэтажный дом, фасадом обращенный на Невиим. Прямо перед ним в дальнем конце двора белел в сумеречной полутьме ветхий домик, более напоминающий сарай. Слева, за разросшимися кронами оливковых деревьев, угадывалась черепичная крыша еще одного дома. У стены развалюхи, склонившись над тазом, установленным на табурете, стояла девушка — такая маленькая, что Марк поначалу принял ее за девочку. У нее были длинные волосы, они мешали, падали на лоб. Девушка отбросила их и, почувствовав взгляд, обернулась… Марк стремительно пересек двор и оказался возле девушки. Стремительность эта испугала ее — она отпрянула, встала возле двери.
Марк приподнял шляпу:
— Добрый вечер. Прошу извинить за вторжение!
Она молчала, внимательно всматриваясь в него. Словно некий образ возник перед ней, и она тщательно проверяла его соответствие с каким-то иным… Или сличала с фотографией, с которой не расставалась?
Это цепкое разглядывание начало уже раздражать Марка.
— Я не из полиции.
— Вижу… Вас тоже интересует отец Феодор?
Похоже, с этой девочкой можно играть только в открытую.
— Верно!
Задумчиво кивнула головой.
— Подождите минутку.
Взяла таз, подняла без усилий, скрылась за дверью.
Марк огляделся: отсюда дом под черепичной крышей просматривался лучше. Он был возведен по низу небольшого холма, отчего крыша оказалась на уровне середины стволов деревьев.
— Вряд ли я могу вам помочь. Все, что я знаю, я уже рассказала англичанам. Они допрашивали меня целый день!
Он и не заметил, как она вышла из дома. Она смотрела на него, не мигая, широко открытыми глазами. Так смотрят дети, убедившие себя не бояться темноты.
Он улыбнулся.
— Я был бы рад, если бы вы мне помогли. Англичане мне тоже надоели… Впрочем, надо отдать им должное, они заасфальтировали улицы.