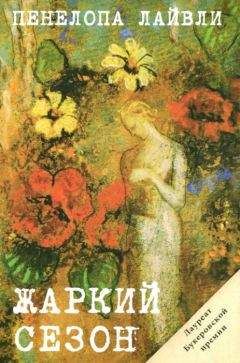Имре Кертес - Самоликвидация
Нет, нет, литературным сотрудником, а затем издательским редактором становятся главным образом по ошибке. Во всяком случае, западней, в которую ты попадаешь, служит литература. Или, скажем точнее, чтение. Чтение как наркотик, который приятно баюкает и расслабляет, размывая, смягчая жесткие контуры довлеющей над нами жизни. Началось это, кажется, в университете, в гуще университетской дружбы, шумных, глубоких и бессмысленных споров, затягивающихся до глубокой ночи. У одного из наших друзей вдруг появилось в печати стихотворение. Перед этим он дал его нам прочесть, и ты сказал что-то очень глубокомысленное об одной паре рифм. После этого стало как бы в порядке вещей спрашивать твое мнение о том о сем. И вот ты с важным видом шагаешь по коридору, под мышкой у тебя чьи-то рукописи. Тебе свойственно теперь некоторое брезгливое высокомерие, некоторое языковое чистоплюйство, которое прочие воспринимают как тонкий и безошибочный вкус. Про тебя говорят, что ты, скажем так, «разбираешься в литературе»; и в конце концов ты сам начинаешь в это верить. Ты становишься редактором университетской газеты. Постепенно ты обретаешь умение находить лазейки в лабиринте цензурных требований — и воспринимаешь это как своего рода азартную, увлекательную игру. Дурачок несчастный! Иной раз тебя даже, бывает, конфиденциально треплют по плечу за «смелость». Спустя еще какое-то время ты усваиваешь господствующий в издательствах веселый цинизм и находишь в нем своеобразное удовольствие. В те годы еще знали, что такое запах свежей типографской краски, и еще жив был один старик писатель, который приносил в издательство свои — публикуемые по милости государства — произведения, переписанными от руки.
О чем это я? Так, глядишь, в конце концов начну анекдоты рассказывать. Только сейчас я вижу, как трудно автору держать себя в руках, оставаясь в рамках ясной и четкой структуры, тонко и ненавязчиво развивая мотивы и соблюдая единство стиля; умение это, умение держать себя в руках, и отличает настоящих писателей от дилетантов вроде меня. Моя задача: проследить, как завладела мною та страсть — должен сказать, единственная в моей жизни настоящая страсть, — которая с течением времени превратилась во мне в одержимость и предметом которой, разумеется, была книга; в данном случае — отсутствующая книга, пропавший роман Б. Была? Ведь она и сегодня еще может где-нибудь обнаружиться, хотя в это я не верю. Но почему я думаю о ней как о не подлежащем сомнению факте? Почему я думаю, что Б. написал этот роман, думаю, несмотря на то что никто никогда не видел рукописи и все клянутся, что таковая не существует? Я один уверен, что он написал этот роман. Не мог он уйти из жизни, не написав его. Ибо он был писателем, настоящим писателем, настоящие же писатели имеют обыкновение завершать свою работу, не важно, будет это несколько тысяч страниц или несколько коротеньких строчек. Незаконченных произведений после себя большой писатель не оставляет, это я успел усвоить за годы своей профессиональной карьеры. Прочесть этот роман — для меня дело жизненно важное: ведь тогда я, по всей очевидности, узнаю, почему он умер. И возможно, узнаю: если он умер, то — скажем так — позволительно ли жить дальше мне?
Я раздумываю над тем, когда, в какой момент наша дружба стала превращаться в своего рода зависимость; разумеется, я говорю о своей зависимости: что касается Б., он был независим, как сосулька (и так же, как сосулька, хрупок и нестоек: сейчас, задним числом, я хорошо это вижу). А потом я впутался и в его историю, и теперь не могу отделить его историю от своей. Кажется, началось это с того давнишнего разговора, когда мы сидели с ним в дальнем углу полутемного эспрессо, вскоре после того, как меня выпустили из тюрьмы. Хотя и к тому, что я был вообще арестован, он не то чтобы не имел совсем ни малейшего отношения, — излишне и говорить, что тут я имею в виду сплошь вещи абстрактные, то есть исключительно духовное влияние, которое он оказывал на меня с первой минуты нашего знакомства. Если хорошо подумать, то должно было случиться и нечто другое: во мне незаметно проснулась и та, со студенческих лет спящая во мне книга. Редакторская работа никогда не удовлетворяла меня полностью, даже во времена серьезных успехов: скажем, когда ту или иную книгу, от которой я был в восторге или публикацию которой просто считал очень важной, мне удавалось, одному или с помощью временных союзников, протащить через заслоны всеобщей глупости или через цензуру. Наверное, вместе с книгой дремал во мне и какой-то другой человек (ну, или, может, некий комплементарный, дополняющий образ, но об этом лучше не буду), который с появлением Б. вдруг проснулся к жизни, словно Лоэнгрин, спящий в Эльзе. Но боюсь, если я буду продолжать в том же духе, то окажусь на очень зыбкой почве. Ладно, не важно. Суть в том, что в жизни моей не хватало того художника, ради которого ты, собственно, и ступаешь на редакторскую стезю. Не хватало проклятого поэта — ну вот, я все же это высказал, как ни ребячески это звучит.
Что делать: у каждого из нас есть так называемый идеал, даже если об этом и не принято говорить и даже если каждый из нас яростно отрицает его существование. И вот я увидел перед собой человека, который живет по своим собственным законам. Протекло какое-то время, и я поймал себя на том, что паразитирую на его словах. Что все время ощущаю потребность знать, о чем он думает, что делает, над чем работает. Что, это звучит очень глупо? А что делать: уж таковы мы, немного вторичные люди. Мы питаемся жизнью тех, кто сильнее нас, словно из этой их жизни какой-то кусок полагается и нам. Я в то время был в очень большой беде, и морально, и в других отношениях (чтобы быть кратким, скажу: жизнь моя, и без того лежавшая в руинах, теперь, казалось, подходит к последней границе), и в плачевном своем положении заведомо был готов воспринять любое влияние. Черные это были дни: зима пришла в город, зима пришла в мое сердце. Я самым серьезным образом подумывал о самоубийстве. Меня просто-напросто покинула способность наделять свою жизнь видимостью жизни осмысленной и разумной. Я все более убеждался, что, кроме радости, которую эта жизнь может еще мне доставить, в ней слишком уж много, непосильно много хлопот, проблем, неприятностей. Как раз тогда я узнал мнение Б. о самоубийстве: это было ошеломляющее и ни с чем не сравнимое суждение; и — прямая противоположность тому, что Б. в конце концов все-таки совершил.
Но я чувствую, что утрачиваю последовательность. Наверное, мне стоит придерживаться какой-то хронологии; рассказать, например, как я познакомился с Б. Только вот беда: я уже не помню этого. В издательстве Б. знали все. Я был тогда сотрудником отдела художественной литературы, и с Б., который приходил к редакторам, занимавшимся зарубежной литературой — он переводил с французского, немецкого и английского, переводил одинаково блестяще, — я никак не пересекался. Но не замечать его я не мог: Б. был весел и шумен, охотно развлекал людей и обладал удивительным остроумием, — во всяком случае, такую маску он надевал на себя по утрам. Тогда я еще не мог знать этого; но, как бы там ни было, он вызывал у меня некоторую брезгливость. Однажды мы все же разговорились: случилось это в буфете, в этом социалистическом приюте вчерашних лепешек, подозрительных бутербродов и водянистого кофе, в буфете, куда, в поисках минутного утешения и убежища, время от времени обязательно приходит каждый. Дело в том, что издательство наше делает свой ежемесячный популярный журнал, и я был одним из его редакторов. Вследствие этого я все время ощущал недостаток материалов. Вот почему, сидя в компании вчерашних лепешек и синтетического апельсинового сока, я спросил Б.: он только переводит или пишет что-то и сам? А если да, то нет ли у него чего-нибудь для нашего журнала? Вот в тот момент я и увидел его настоящее лицо. Взгляд у него был очень неприятен. «Ты кто такой?» — спросил он. Я ответил, что работаю здесь и что мы вроде бы знакомы. «Я не в том смысле», — сказал он. И некоторое время смотрел на меня строгим оценивающим взглядом. «Любишь крутые вещи?» — немного погодя спросил он. «Зависит от качества», — ответил я, решив, что он просто набивает себе цену. Разговор получался довольно дурацкий.
Спустя пару недель он положил мне на стол рукопись, в которую я, после того как он вышел из комнаты, лишь бегло заглянул. Что отрицать, уже на первый взгляд материал показался мне интересным. Так что я, заглянув, тут же и прочитал его от первой строки до последней. В рассказе, который позже считался — правда, считался лишь в очень узком кругу — главным произведением Б., он впервые сформулировал центральную мысль своего понимания мира: мысль эта заключается в том, что Зло — основной принцип жизни. Сам рассказ, однако, представлял собой историю одного высокоморального поступка, то есть доказывает, что Добро тоже может иметь место. Рассказ повествует о том, что в жизни, принцип которой — Зло, Добро все же можно творить, но только ценой жизни того, кто творит Добро. Это было действительно смелое (крутое, как выразился Б.) утверждение; смелой была и сама проза, в которой оно прозвучало. К тому же действие рассказа происходило в нацистском концлагере.