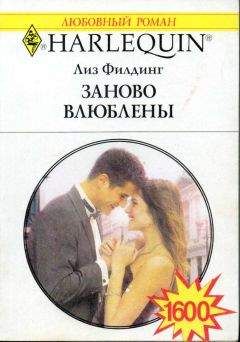Славомир Мрожек - Валтасар
Дядя Юлиан слушал сообщение из Варшавы — столица капитулировала. Он сидел, положив голову на руки, и плакал.
Я молча попятился и ушел в сад. Впервые увидел, как плачет взрослый мужчина. Кажется, больше ничего подобного я никогда не видел.
А потом становилось все хуже. Через Боженчин проходили уже не сплоченные отряды и даже не разрозненные группы польских солдат, а просто крайне изнуренные люди. Иногда с оружием, иногда — без, небритые и грязные, они шли куда глаза глядят — лишь бы идти. Бесцельно. Не могу забыть одного из них: он брел очень медленно, опираясь на винтовку. Шаг — винтовка — еще шаг. Он шел один, другие его обгоняли.
Но вот наступило 17 сентября, и Красная Армия, вторгшись в Польшу с востока, двинулась навстречу немцам. Отряды, стиснутые с двух сторон, сдавались Советам либо, сбрасывая мундиры и закапывая оружие, разбегались. Некоторые, стараясь использовать любой шанс, пробирались к Залешчикам, к румынской границе.
Кампания началась без объявления войны и так же завершилась — без капитуляции. Польша просто перестала существовать.
Наступил октябрь, зарядили осенние дожди. У костела, на дороге — той самой, которая, минуя кладбище, вела через поля к Бельче, — стояла польская танкетка, давно уже брошенная экипажем на обочине. Армия — ни польская, ни немецкая — здесь уже не появлялась.
Зато появлялись крестьяне. Дымя папиросами, не спеша возились у танкетки. Сначала открутили оборудование внутри, потом поснимали то, что оставалось снаружи, включая гусеницы. Под вечер, который начинался теперь с каждым днем все раньше, уезжали, увозя трофеи. В конце концов остались только гайки, заклепки и всякие завертки, которые изредка кто-нибудь откручивал, но потом и они исчезли. Казалось, обобранная дочиста танкетка останется с нами навек.
Но вскоре кто-то приехал с лошадьми и, как-то незаметно, уехал, а с ним исчезла и танкетка.
Началась немецкая оккупация.
Оккупация
Больше я никогда не бывал в краковской школе имени Св. Николая, где научился читать и писать. Здание школы занял вермахт. Три года я продолжал учебу как единственный среди сельских детей «интеллигент». Сначала в Боженчине, потом в других местах. И учеба эта — не приведи господь.
Франция и Англия объявили войну Германии, и одному немецкому часовому на посту в Кракове явился Святой Антоний. Он сообщил, что война закончится поражением Германии. Привожу его слова, чтобы показать, насколько мы были наивны. В народе без конца ходили слухи о предсказаниях Нострадамуса и других пророков.
В ту пору мы непоколебимо верили в непродолжительность войны. Максимум — до начала лета, а потом — конец, так говорили. А пока можно отправить детей в школу, чтобы не теряли год.
В Боженчине уже тогда было пять тысяч жителей, и село считалось самым крупным в Малой Польше[18]. Большая двухэтажная школа находилась в огороженном саду. Решили, что я пойду в третий класс, соответствующий моему десятилетнему возрасту. От дома до школы было пятнадцать минут ходьбы.
В то время ни в одном учебном заведении, включая высшие, не было совместного обучения. Однако это не касалось школ «для народа». В чем я убедился в первый же день, когда мать отвела меня в боженчинскую школу. Этот благонравный принцип соблюдался только в больших городах. Деревенские нравы радикально отличались от городских. В деревне девочки и мальчики росли вместе и с малых лет разглядывали друг друга — откровенно и грубо. Для меня это было захватывающе!
Все это выбивало меня из равновесия. Прежде я рос как все мальчишки. Бесился и носился сломя голову. В школе дрался, как все, — и вот однажды, в сильном возбуждении, для разрядки стал задирать ученика, который казался мне ниже ростом. Не успел я замахнуться, как в голове у меня зашумело и я оглох. Еле передвигаясь, отошел в сторону. Только потом понял, что произошло. Противник словно парализовал меня, ударив ладонью плашмя по шее. Боль не утихала несколько дней. Раньше мне не приходило в голову, что деревенские мальчишки умеют так мастерски драться. Совсем как в романе Гомбровича «Фердидурке», когда покорный Валюсь дает наконец по морде ясновельможному панычу, который на это напрашивается.
В последующие годы в моих отношениях с деревенскими соучениками существенных изменений не произошло. В Боженчине, как и в Поромбке Ушевской, а после в Камене, друзей у меня не было. В те времена различия между «народом» и «интеллигенцией» — даже, казалось бы, такие незначительные, как в моем случае, — были столь глубоки, что современному человеку трудно это понять. У нас были разные взгляды, разные ассоциации и разные перспективы. К счастью, я не стал козлом отпущения. В коллективе это нетрудно — тот, кто не похож на других, легко может стать всеобщим посмешищем. Коллектив получает от этого садистское наслаждение, что каждому приятно и к тому же укрепляет общую солидарность. Меня оставили в покое, а я, найдя совершенно другие развлечения, не забивал себе голову проблемами «народа». Только в 1943 году, вернувшись в Краков, завел подходящих товарищей.
Семья матери
Ян Кендзор перебрался в Боженчин еще до Первой мировой войны. Приехал он вместе с женой из Жешувского воеводства, где закончил молочно-промышленное училище. Сохранилось письмо от тети Янины, единственной из дочерей Яна Кендзора, которая дожила до преклонных лет. Она написала мне уже после моего возвращения в Краков, в 1997 году. Почти столетняя тетушка (вскоре она умерла) так описывает своих отца и мать: «Они познакомились в поезде. Она, простая деревенская девушка, читала книжку. Заинтригованный, он заговорил с ней, и они поженились».
На мой взгляд, Ян Кендзор был мужчина страстный. Об этом свидетельствует не столько его жизнь с женой в Боженчине, где у них родилось много детей, сколько его отношение к женщинам. Я не знал свою бабушку. Она умерла молодой, до моего рождения. Зато я знал вторую дедову жену — не скрою, отвратительную бабу. Уму непостижимо, каким дед был подкаблучником! Вскоре после его смерти я нашел несколько открыток, которые он писал жене, когда уезжал по делам из Боженчина. Для того пуританского времени — открытки почти эротические.
Ян Кендзор не был похож на ловеласа. Рослый, красивый мужчина, с усами — по тогдашней моде, — с голубыми глазами, в которых светилось что угодно, только не чувство юмора и не игривость. Я допускаю, что, выбиваясь из «полубедности» в «полузажиточность», как большинство небогатых жителей Галиции и Лодомерии[19], он не находил ни времени, ни случая заводить романы. Тем не менее, скрытое влечение к женщинам осталось.
В Боженчине он построил дом и заложил молочную ферму. Дом, на удивление, маленький, хотя дети у деда множились; сад же — довольно большой. Дом, правда, каменный, но всего лишь двухкомнатный. Под той же крышей помещалась и ферма. Два сепаратора для снятия сливок и одна бочка для превращения сливок в масло. Все сработано вручную, на примитивном станочке. На ферме работали молодые, еще незамужние девушки — предмет неустанных грубоватых заигрываний возчиков, которые во множестве приезжали не только из Боженчина, но и из окрестных сел. Крестьяне заключали договор с фермой на ежемесячную поставку молока. Каждый день они сдавали цельное молоко для переработки и взамен получали снятое. Одновременно в примитивной лаборатории определялся процент жирности молока. Все это — с раннего утра до позднего вечера, в шуме и оглушающем грохоте, производимом машинами, лошадями и прежде всего людьми. Случались баталии, когда две стороны пытались доказать свою правоту. Крестьяне, как им и положено, утверждали, что сданное молоко невероятно жирное, а хозяин фермы — что оно невероятно тощее.
Такою было положение вещей, когда я родился. Добавлю, что родился я не в главном доме; а в расположенном на отшибе — съемном. Родители снимали этот дом, что стало возможно благодаря тому, что отец получил в Боженчине руководящую должность. Когда я родился, моему брату было уже два года. Что происходило до моего рождения — не знаю, хотя очень хотелось бы узнать. Предполагаю, что дед под влиянием своей второй жены не допустил совместного проживания. А может, отец и мать сами захотели жить отдельно. В любом случае, тут что-то было связано с мезальянсом, который позволила себе моя мать.
Несколько десятилетий назад в Боженчине повально болели чахоткой. Возможно, потому, что люди вступали в брак и умирали в одной и той же деревушке. В этом убедился задним числом Ян Кендзор, который прибыл в Боженчин издалека и завел там семью. От чахотки умерли его жена, две дочки и два сына. Все — очень молодыми. И сам он скончался от той же болезни. В живых осталась упомянутая мною дочка Янина; сын Казимеж тоже дожил до преклонного возраста. Любопытно: оба работали учителями, и оба жили за пределами Боженчина.