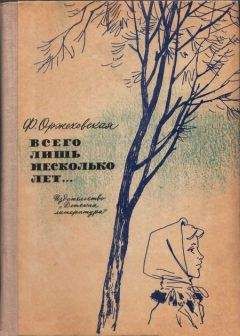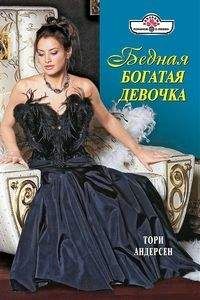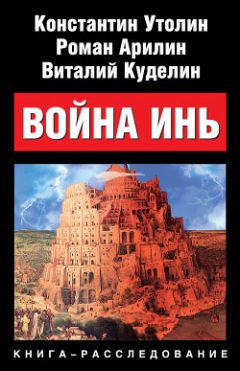Кейт Уотерхаус - Билли-враль
— А мог бы и купить себе растреклятую бритву, чтоб не хватать мою, — бросил он, не замедляя шага.
— Восемьдесят четыре, — отозвался я: дескать, нынче с утра словечко «растреклятый» выскочило у него уже восемьдесят четыре раза; но хлопнувшая дверь заглушила мою традиционную подковырку. Разговор про Лондон повис в воздухе: отец уже позабыл о нем, а может, и с самого начала ничего не понял.
Проходя через гостиную, я услышал, как матушка привычно сказала: «Ходи, ходи — авось, встретишь сам себя: не успеешь уйти, как уже придешь». У нее было несколько таких фраз, точно рассчитанных на время моего пути от кухонной двери до двери в холл. Когда-то я попытался научить своих предков называть эти фразы матушки «материзмами», но они, конечно, не поняли, о чем я толкую.
Умываясь в ванной, я со страхом почувствовал (хотя и предвидел это заранее), что мысли о несбривающейся щетине под подбородком загоняют меня в Злокозненный мир. Сначала я подумал, что моя странная щетина — это особые волосы, растущие не наружу, а внутрь, как у тех людей, которые каждые шесть недель ложатся в больницу, чтобы волосы удалили, а то они мешают им есть и дышать; ну, а потом я поехал по давно известной дорожке: полиомиелит, туберкулез, рак — и совсем новая болезнь в истории медицины под названием «Зевота Сайруса». Все последнее время такие мысли, донимавшие меня чуть ли не каждую свободную минуту, неизменно преображались в ужасные раздумья — что произойдет, если я вдруг попаду в больницу или даже умру от какой-нибудь неизлечимой болезни, а история с календарями выплывет наружу?
Матушка крикнула мне наверх из гостиной:
— Такими темпами ты не только что в Лондон — даже и на службу-то не попадешь! Ведь уже почти половина десятого! — Но календарная история крепко держала меня за горло, и я, задыхаясь, потащился в свою комнату — Злокозненный мир засасывал меня, как зыбучая трясина.
Шел сентябрь. А календари я должен был разослать недели за две до рождества, еще в прошлом году. Стало быть, эта история доканывала меня уже больше девяти месяцев, или, как я недавно подсчитал, шесть тысяч пятьсот двадцать восемь часов. На календарях с обложками из тонких, но плотных картонных карточек десяти дюймов в длину и восьми в ширину была изображена кошка, глядящая на собаку, под рисунком отчетливо чернело слово СОПЕРНИКИ, а над рисунком было бледно подпечатано: КРАБРАК И ГРАБЕРРИ. ПОХОРОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. И чуть ниже — три слова, разделенные блеклыми звездочками ТАКТ. ВКУС. ДОСТУПНОСТЬ. Эти шикарные, по мнению Крабрака, календари надо было разослать полезным, на его взгляд, людям: директору Дома для престарелых, нашему давнему заказчику, членам правления Страхтонского крематория и приходским священникам, чтобы они не забывали звонить нам, когда появлялась надобность в услугах похоронной конторы. Ну, а я календари-то не разослал, а почтовые деньги присвоил. Сначала я прятал календари на складе, в подвале конторы, но, очумев от жутких видений Злокозненного мира — Крабрак приподымает крышку гроба, находит календари, и все узнается, — перетаскал их постепенно домой. Несколько штук мне уже удалось уничтожить: вечерами я выносил их по одному из дома, рвал на мелкие клочья и разбрасывал по Страхтонской пустоши. И хоть всякий раз я боялся до холодного пота и липкой дрожи, что полиция найдет меня по обрывкам календарей, мне удалось избавиться уже от четырнадцати штук. Остальные хранились в железном сундучке под моей кроватью — их осталось двести одиннадцать.
Одеваясь, я решил непременно разыскать в «Домашнем юристе», что мне могут сделать за мое преступление. «Итак, Сайрус, вы заслуживаете тюрьмы. Но, учитывая вашу юность и высокую оценку ваших способностей…» Что ж, тюрьма так тюрьма. Но я, конечно же, поразил начальника тюрьмы своим интеллектом, сдружился со священником — и благополучно вынырнул в Амброзийском мире, хотя такие путешествия были непозволительной роскошью в рабочий день после половины десятого.
— Билли, если ты через пять минут не уйдешь, я сама вышвырну тебя из дома! — крикнула мне снизу матушка. Я надел пиджак и выдвинул из-под кровати древний, покрытый черным лаком железный сундучок. Приклеенная вчера марка была на месте — значит, крышку никто без меня не открывал. Давным-давно, когда в сундучке хранились только исписанные неразборчивым почерком открытки от Лиз да сладенькие записочки Ведьмы, я назвал его Уголовным сейфом. И доля правды в этой шутке довольно быстро стала стопроцентной.
Нерешительно приподняв крышку, я был, как всегда, ошарашен и пришиблен огромной грудой календарей — на бурых конвертах моим размашистым почерком были написаны адреса «полезных людей» вроде доктора Харви Хвата, П. У. Рогмана, эсквайра, или преподобного Д. Л. П. Гвозделла, директора общежития для одиноких рабочих. Кроме календарей, в черных недрах Уголовного сейфа хранились любовные письма, счета, которые отец просил меня послать клиентам его фирмы, любовные пилюли, подаренные мне Штампом, зачитанный сборник «Рассказов для мужчин» в глянцевой обложке и письмо, написанное матушкой в радиоредакцию «Час домашней хозяйки». Я отчетливо представлял себе, как она открывала бутылочку чернил «Радужная чернь» и склонялась над листом мелованной бумаги… но, хоть убей меня, не мог понять, почему я не отправил ее письмо и зачем вскрыл его, сидя на корточках перед Уголовным сейфом.
«Уважаемый господин Редактор!
Я не отниму у Вас много времени, чтобы сказать, как я люблю слушать Ваш Час каждый день, что бы я ни делала, и попрошу Вас передать Песню («Песню в сумерки») для меня, хотя у Вас, наверно, не всегда найдется время передавать, что захочет каждый, но это моя «любимая песня», потому что муж часто пел ее, когда мы были молодые, хотяя понимаю, что у Вас, может быть, не хватит времени.
С глубоким уважением к Вам, (миссис) Н. Сайрус.
Р.S. Мой сын тоже пишет песни, но у него, наверно, мало шансов, потому что нет такого образования. Мы простые британские люди».
Я подумал, что тех споров, которые я вел с матушкой в Амброзийском мире насчет «простых людей», хватило бы на десяток радиочасов домашней хозяйки, и перевел взгляд на тонкую пачечку открыток от Лиз, перехваченную резинкой, как будто это старые конверты с небрежными заметками. Ее открытки, присланные из предпоследней поездки, и правда походили на небрежные заметки с интересными, но слегка занудными описаниями тех городов, куда ее заносила непоседливость или, может, одержимость; но они хоть по крайней мере были грамотными. Странно, конечно, ценить — и хранить — любовные письма за их грамотность… а собственно, за что еще-то мог я их ценить? Иногда, вспоминая Лиз, я, случалось, по целой минуте не удирал из реального мира, но потом все же уныривал вместе с ней в Амброзию, где меня должны были судить за подстрекательство к мятежу, а она, как знаменитая Ева Перон, взволнованно слушала споры юристов.
Я вытащил один календарь из Уголовного сейфа и сунул его под джемпер. Если я уеду в Лондон через неделю, то мне за сто восемьдесят шесть часов придется уничтожить двести одиннадцать календарей, или, считая до субботы с запасом, примерно по два календаря в час. Я вынул еще три, засунул их под брючный ремень и одернул джемпер. Роясь в Уголовном сейфе, я наткнулся на белый плоский пакетик с таблетками, якобы возбуждающими половое влечение, или любовными пилюлями, как сказал Штамп, когда в приступе щедрости, нерешительности и страха неловко совал их мне в руку. Я выбросил Лиззи из головы и принялся думать сначала о Рите, а потом, кое-что решив для себя, о Ведьме. Наконец я положил любовные пилюли в карман, наткнулся — так что проклятые календари жестко уткнулись мне в ребра и оттопырили углами кольчужную вязку джемпера, — переклеил марку, чтобы она оказалась в четырех дюймах справа от ручки на крышке сундучка, захлопнул его, аккуратно задвинул под кровать и начал спускаться, чувствуя себя ожившим Уголовным сейфом, а не человеком. В холле я надел свой уличный плащ, застегнулся на все пуговицы и только после этого вошел в гостиную.
— Его и похоронят в плаще, — автоматически сказала бабушка шкафу, не прекращая с остервенением тереть его клетчатой тряпицей: она считала, что за «стол и кров» ей надо ежедневно стирать отовсюду пыль и полировать мебель.
Для рабочего дня было уже очень поздно. Последние машинистки с цилиндрическими, как ведра, плетеными сумочками, в которых лежали бумажные носовые платки да флаконы-распылители с жидкостью, отбивающей запах пота, спешили к автобусной остановке. Дом затопила утренняя тишина и аромат мази «Антиквар» для полировки мебели. В солнечных лучах плавали серебряные пылинки. Приемник, подчеркивая поздний час голосом незнакомого мне диктора, бормотал о каких-то народах со странными обычаями; у меня было такое чувство, будто я давно проехал свою остановку на последнем поезде.