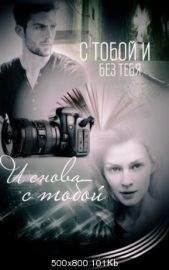Борис Алмазов - Охваченные членством
— Вот какие воспитанные мальчики, — сказала Ирина бабушка. — Точность — вежливость королей.
При этих словах Серега отскочил назад, склонил голову набок, глаза выпучил и заорал:
— Глубокоуважаемая и незабвенная Ольга Тимофеевна, позвольте мне в сей высокоторжественный день рождения вашей внучки Ирины поздравить вас...
Все даже замолчали. Так молча за столом и сидели. А Серега с какой-то кривой ухмылкой голову так набок склонил, вилка в левой руке, нож в правой, по тарелке скребет, и кажется, что у него на каждой руке по десять пальцев и все параличные.
— Может, кому добавочки? — Ирина мама говорит.
— Что вы! Что вы! Хи-хи-хи... Я очень сыт. Благодарю вас!
«Эх, — думаю, — была не была, уж больно котлеты вкусные».
— Я бы, — говорю, — еще бы съел!
Серега на меня страшными глазами смотрит.
— Вот и умница, — говорит бабушка, — люблю, когда хорошо кушают!
Тут у меня настроение совсем поправилось. Уж я ел, ел... Думал, лопну. А на третье был компот! Консервированный! Сливовый! Замечательный! Я целых три кружки выпил. Ягоды вытаскал, а косточки на блюдечко наплевал.
А Серега стал вдруг грустный-грустный. Скучненький такой,тихонечко сидит.
А потом был торт! Ну тут уж я петь был готов! Замечательный день рождения! А Серега все сидит, не ест, не пьет... Руки под столом держит, как по правилам положено.
— Фто ты прифых? (Я хотел сказать «что ты притих?», да торт во рту.) — И как трахну его по спине!
Продолжение этой истории можно прочитать в истории болезни, потому что Серега подавился. Он, оказывается, держал во рту сливовые косточки.
— Что же ты их не выплюнул? — спросил я, когда навестил его в больнице.
— Это некультурно, — ответил бледно-зеленый Серега. — Так по правилам не полагается.
— А как по правилам?
— Не знаю, — вздохнул он. — Я до компотов дочитать не успел.
— Господи! — говорила потом на кухне Мэри, промокая уголки глаз кружевным платочком. — Если бы я знала... Я ведь из совершенно добрых побуждений дала им эту книгу...
— Да что вы казнитесь... Сам виноват, — успокаивал ее дядя Толя. — Это ведь... извиняюсь, отчества вашего не знаю...
— Францевна, — всхлипывая, отвечала Мэри.
— Это ведь, Мэри Францевна, как в пословице говорится: заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет...
— А культурки поднабраться нашим мальцам действительно не вредно! — сказала тетя Дуся. Она тоже сочувствовала Мэри. — Уж больно хамье надоело!
И все, кто случились в этот момент на кухне, с ней согласились.
С этого дня никто не звал Мэри даже за глаза, даже в шутку «мамзелью», а только уважительно — Мэри Францевна.
Умпа-ра-ра!..
Привязался ко мне этот припев: «Умпа-ра-ра!..» И главное, такой прилипучий, с любыми словами петь можно.
Вот Серега, он мой друг,
Умпа-ра-ра!
Подавился костью вдруг,
Умпа-ра-ра!
Отвезли его в больницу,
Умпа-ра-ра!
Потеряли рукавицу...
(Это для рифмы, никакой рукавицы не теряли, потому что был сентябрь и никто рукавиц не носил.) Серега уже целых семь дней в больнице лежит и неизвестно, еще сколько лежать будет. Без него мне плохо, и ему без меня, наверное, тоже.
По нему я стал грустить,
Умпа-ра-ра!
Решил его я навестить,
Умпа-ра-ра!
Удрал я с последних двух уроков и поехал больницу искать. В том районе я никогда не был, но нашел быстро. Как вышел из трамвая — а вот она, у самой остановки. Написано: «Детская поликлиника».
Вот в больницу я пришел,
Умпа-ра-ра!
И к окошку подошел,
Умпа-ра-ра!
Круглое такое окошко, а на нем короной буквы: «Регистратура». Только я в окошко сунулся, а оттуда как закричит тетенька в белом халате:
— Это что еще за явление?! Да долго вы меня еще терзать будете? Из какого ты класса?
— Из второго.
— А фамилия?
Я сказал. Она порылась в каких-то бумажках, а потом как закричит опять:
— Нет твоей карточки! Пойдем!
Выскочила из-за загородки, схватила меня за плечо и побежала по коридору, я только об ее живот головой стукаюсь. Подбежали к кабинету, тут она меня как толкнет животом, так я в дверь и залетел.
В кабинете сидит другая тетенька, у нее на лбу зеркальце с дырочкой, чтобы было видно, куда зайчики.
— Вот! — кричит та, что меня привела. — Еще один!
— Господи! — говорит доктор. — Это же наказание какое-то! Долго они идти будут?! Наваждение какое-то!
— И карточки нет! — подзуживает тетка. Тут они обе как закричат, я думал, вообще меня разорвут. Я уж молчу, чтобы их не раздражать.
— Садись! Открой рот!
Сел. Открыл.
— Кошмар! Сейчас люголь и немедленно к стоматологу, четыре кариеса! — И еще стали какие-то непонятные слова говорить.
«Наверное, — думаю, — они всем на всякий случай в горло смотрят: нет ли там случайно косточки, как у Сереги ». А зеркало мне прямо в глаза светит — ничего не видать.
— Тетя, — говорю я как можно вежливее. — Это Серега, а я ничем не...
— Молчи! Открой рот! Скажи «а-а-а».
— А-а-а! — Тут мне в горло какой-то пакостью как брызнут! Противная. Жжет! У меня дыхание перехватило. Хотел закричать: «Что вы делаете?!», а голос пропал, только шипение какое-то из горла идет.
— Ничего, ничего, — из-за зеркала доктор говорит. — Сейчас к стоматологу. Быстро! Боюсь, как бы не пришлось тебе миндалины удалять.
«Какие, — думаю, — миндалины! Я никаких миндалин не ел! Вообще никаких орехов не ел».
И опять полетели мы с теткой по коридору. Не успел я охнуть, а уже у стоматолога, в зубном кабинете сижу, рот ватой набит. И этот двестиматолог, будь он неладен, у меня в зубе своей электродрелью бурит — дым идет. И еще поет:
— «Ямщик замолк и кнут реме-о-о...» — При этих словах он мне в зубе что-то такое нажал, что у меня слезы из глаз посыпались, и бормашина остановилась.
Тристаматолог сверло сменил и опять:
— «Ямщик замолк и кнут реме-о-о...»
Я даже выгибаться начал!
— Это ж надо так рот запустить! — говорит этот четырестаматолог. — Молчи! Молчи! Сейчас пломбы поставлю... Два часа не есть. И минут десять держи рот совсем закрытым. Вот так сожми и держи.
Чуть живой я из кресла выполз, а тетка из регистратуры тут как тут! Опять меня схватила и в конец коридора поволокла. Там толпа ребят стоит.
—Ну вот! — говорит тетка. — Догнали наконец.
А у меня от бормашины голова гудит, горло дерет. С ребятами учительница стоит.
— Что ж вы своих растеряли? — говорит ей тетка.
— Позвольте, — отвечает учительница и покрывается красными пятнами. — Это не мой ребенок. Мои все здесь!
— Я понимаю! — смеется тетка. — В такой кутерьме все на свете потеряешь, а мальчонка ваш... — И живот у нее весело трясется.
— Да нет же, не мой!
— Это не наш! Не наш! — кричат ребята.
— А чей же? — удивляется тетка. — Мальчик, ты из какого класса?
А мне-то врач говорить не разрешал. Показываю на пальцах — из второго.
— Ну вот, — говорит она. — Из второго! Ваш мальчонка!
— Из второго, да не из нашего! — кричат ребята. А один, дылда такой, говорит:
— Мы таких ушастых не держим!
Хотел я ему ответить, да вспомнил, что доктор этот, пятьсотматолог который, молчать велел. Десяти минут не прошло же еще!
— Мальчик, ты откуда? — спрашивает учительница. — Мальчик, ты что, язык проглотил?
«Ну да, — думаю, — сейчас вам ответишь — пломбы вывалятся и опять придется к этому шестьсотматологу в кресло садиться». Молчу, как партизан на допросе!
— Он, наверно, из второго «г». — Дылда говорит.
«Сам ты, — думаю, — из “г”. Жалко, сказать нельзя — семьсотматолог не велел».
— А они, — продолжает дылда, — вчера в поликлинику ходили! У них вчера медицинский день был.
— Раз опоздал — пусть первый идет! — Какая-то девчонка сунулась.
Тут открывается дверь в кабинет, и медсестра с закатанными рукавами халата спрашивает:
— Кто следующий?
А за спиною у нее, в кабинете на столе, шприцы разложены, а на шкафу здоровенные клизмы... Прямо как тыквы оранжевые!
Тут я как заору:
— Як Сереге пришел! Мне в больницу надо! Я друга навещать!
Так я к нему в тот день и не попал. Оказывается, мне надо было в больницу, а я-то попал в поликлинику. Больница-то — дальше по улице...
В поликлинику попал,
Умпа-ра-ра!
И чуть концы там не отдал! Во как!
«Задумчивые» брючки
Сереге купили настоящие брюки с карманами! Мы все еще в коротких ходили, а у него — брюки! С ремнем! Светло-серые. Суконные. Подарили их Сереге вечером, и он насилу утра дождался, чтобы во двор в новых брюках выйти — хвастаться. Он ходил по двору — руки в брюки, но во дворе, как назло, никого. Пусто. Потому что воскресное утро и все еще спят, а передо мной ему уже хвастаться надоело. Да я уже и привык, что у него брюки.