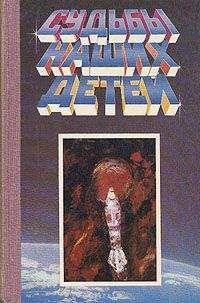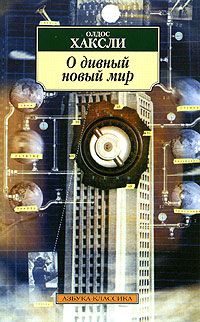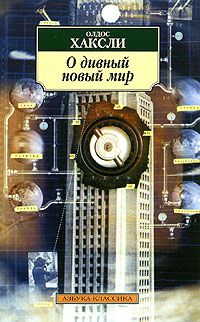Олдос Хаксли - Рай и Ад
Наивысший пример такого мистического искусства — пейзажная живопись, вдохновленная дзэном, которая возникла в Китае в период Сунь и четыре века спустя возродилась в Японии. В Индии и на Ближнем Востоке мистической пейзажной живописи нет; но там есть свои эквиваленты — «вайшнавистская живопись, поэзия и музыка в Индии, темой которых является половая любовь; и суфистская поэзия и музыка в Персии, посвященные восхвалению интоксикации».[9]
«Постель, — как без лишних слов гласит итальянская поговорка, — это опера нищего.» Аналогично, секс — это Сунь индуистов; вино — персидский импрессионизм. Причина этому, конечно, в том, что опыт полового соития и интоксикации несет в себе ту сущностную инаковость, которая характерна для всех видений, включая видения пейзажей.
Если в какое бы то ни было время люди находили удовлетворение в определенном виде деятельности, то следует полагать, что в периоды, когда эта удовлетворяющая деятельность не проявлялась, для нее должен был существовать некий эквивалент. В Средние Века, например, люди были озабочены до наваждения, почти до мании словами и символами. Все в природе мгновенно признавалось конкретной иллюстрацией какого-либо представления, сформулированного в одной из книг или легенд, в то время рассматриваемых как священные.
И все же, в иные периоды истории люди отыскивали глубокое удовлетворение в признании самостоятельной инаковости природы, включая многие аспекты природы человека. Опыт этой инаковости выражался в понятиях искусства, религии или науки. Каковы были средневековые эквиваленты Констебля и экологии, наблюдений за птицами и Элевсиса, микроскопии, дионисийских обрядов и японского хайку? Их следовало искать, я подозреваю, в оргиях Сатурналий на одном конце шкалы и в мистическом опыте — на другом. Масленицы, Майские Дни, Карнавалы — они позволяли осуществить непосредственный опыт животной инаковости, лежащий в основе личной и общественное идентичности. Вдохновенное созерцание являло еще более иную инаковость божественного Не-Я. А где-то между двумя этими крайностями располагался опыт духовидцев и вызывающих видения искусств, посредством которых тот опыт мог схватываться и воссоздаваться — искусств ювелира, стеклодува, ткача, художника, поэта и музыканта.
Невзирая на Естественную Историю, являющуюся не чем иным, как набором нудно морализаторских символов, находясь в челюстях теологии, которая, вместо того, чтобы расценивать слова как знаки вещей, расценивала вещи и события как знаки библейских или аристотелевых слов, наши предки оставались в относительно здравом уме. И они достигали этого искусства, периодически ускользая из удушающей тюрьмы своей самоуверенно рационалистичной философии, своей антропоморфной, авторитарной и не-экспериментальной науки, своей слишком уж красноречивой религии в не-вербальные, не-человеческие миры, населенные инстинктами, визионерской фауной антиподов ума, и за всем этим, но все же внутри всего этого — всерастворенным Духом.
От этого широкомасштабного, но все-таки необходимого отступления давайте вернемся к частному случаю, с которого начали. Пейзажи, как мы увидели, — постоянная черта духовидческого опыта. Описания визионерских пейзажей встречаются в древней фольклорной и религиозной литературе; но живописные полотна с пейзажами не появляются до сравнительно недавнего времени. К тому, что уже было сказано в порядке объяснения психологических эквивалентов, я прибавлю несколько кратких замечаний о природе пейзажной живописи как искусства, вызывающего видения.
Давайте начнем с вопроса. Какие пейзажи — или, более общо, какие изображения естественных объектов — наиболее транспортирующи, наиболее сущностно способны вызвать видения? В свете своего собственного опыта и того, что я слышал от других людей об их реакциях на произведения искусства, могу рискнуть и ответить.
При равенстве прочих вещей (ибо ничто не может компенсировать недостаток таланта) наиболее транспортирующие пейзажи — это, во-первых, те, которые представляют естественные объекты на значительном расстоянии, а во-вторых — те, которые представляют их вблизи.
Расстояние сообщает виду очарование; но то же самое делает и близость. Суньское полотно с изображением далеких гор, облаков и потоков транспортирует; но то же самое делают и приближенные тропические листья в джунглях Дуанье Руссо. Когда я смотрю на суньский пейзаж, то он мне (или одному из моих Не-Я) напоминает о скалах, о безграничных пространствах равнин, о светящихся небесах и морях антиподов ума. И те исчезновения в туман и облака, те внезапные появления каких-то странных, интенсивно определенных форм — старой скалы, например, древней сосны, скрученной годами борьбы с ветром, — они тоже транспортируют.
Ибо они напоминают мне, сознательно или бессознательно, о сущностной чуждости и неподотчетности мне Иного Мира.
То же самое — с приближениями. Я смотрю на те листья с их архитектурой жилок, с их полосками и крапинками, я вглядываюсь в глубины переплетенной зелени, и что-то во мне вспоминает те живые узоры, столь характерные для мира видений, те бесконечные рождения и пролиферации геометрических форм, превращающихся в объекты, вещи, которые вечно преобразуются в другие вещи.
Эти живописные приближения джунглей — то, на что в одном из своих аспектов похож Иной Мир, и поэтому они транспортируют меня, заставляют меня видеть глазами, преобразующими произведение искусства в нечто иное, в нечто за пределами искусства.
Я помню — очень отчетливо, хотя это было много лет назад — разговор с Роджером Фраем. Мы говорили о «Кувшинках» Моне. «Они не имеют права, — продолжал настаивать Роджер, — быть настолько возмутительно неорганизованными, столь тотально лишенными должного композиционного скелета. Они все неправильны, художественно говоря. И все же, — вынужден был признать он, — и все же…» И все же, как сказал бы я сейчас, они были транспортирующими. Художник поразительной виртуозности избрал писать приближения естественных объектов, видимых в их собственном контексте и без ссылок на просто человеческие представления о том, что есть что или что чем должно быть. Человек, как нам нравится говорить, есть мера всех вещей. Для Моне в данном случае кувшинки были мерой кувшинок: такими он их и написал.
Та же самая не-человеческая точка зрения должна быть принята любым художником, пытающимся передать отдаленную сцену. Какие крохотные путешественники на китайской картине — они пробираются вдоль долины! Как хрупка бамбуковая хижина на склоне над ними! А остальной огромный пейзаж — весь пустота и молчание. Это откровение дикой природы, живущей своей собственной жизнью согласно законам своего собственного существования, переносит ум к его антиподам; ибо первобытная Природа странным образом походит на тот внутренний мир, где в счет не принимаются ни наши личные желания, ни даже постоянные заботы человека вообще.
Только среднее расстояние и то, что можно назвать «отдаленным передним планом», строго человечески. Когда мы смотрим очень близко или очень далеко, человек либо совсем пропадает, либо утрачивает свое главенство. Астроном смотрит еще дальше, чем суньский художник, и видит еще меньше человеческой жизни. На другом конце шкалы физик, химик, физиолог следуют приближению — клеточному, молекулярному, атомному и субатомному. От того, что в двадцати футах, даже на расстоянии вытянутой руки, выглядело и звучало как человеческое существо, не остается и следа.
Иногда что-то подобное случается с близоруким художником и счастливым влюбленным. В брачных объятиях личность тает; персона (это возобновляющаяся тема стихов и романов Лоуренса) прекращает быть собой и становится частью огромной безличной вселенной.
То же самое — с художником, который предпочитает использовать свои глаза на близком расстоянии. В его работе человечество теряет свою важность и даже исчезает полностью. Вместо мужчин и женщин, разыгрывающих свои фантастические трюки перед высшими небесами, есть мы, которых просят рассмотреть кувшинки, помедитировать на неземной красоте «просто вещей», изолированных от своего утилитарного контекста и переданных как они есть, в себе и для себя. Поочередно с этим (или исключительно на более ранней стадии художественного развития) не-человеческий мир близости передается узорами. Эти узоры, по большей части, абстрагируются от листьев и цветов — розы, лотоса, аканта, пальмы, папируса — и с повторениями и вариациями разрабатываются в нечто транспортирующее и сходное с живыми геометриями Иного Мира.
Относительно недавно стали появляться более свободные и реалистичные изображения Природы с ближней точки — но все же гораздо раньше, чем такие изображения отдаленного плана, которые мы называем пейзажем, — а считать пейзажами только их есть заблуждение. В Риме, например, существовали свои пейзажи в приближении.