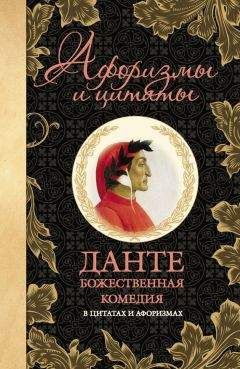Биргитта Тротциг - Охота на свиней
И вот они приехали домой, на хутор, где Товит жил с родителями. Приехали в полдень, в палящую жару, когда свет как бы струился беззвучным белым потоком, словно блекло-белесая вода. Родители не одобрили. Не одобрили, и всё тут.
Товит отвел девушку к себе, в ту комнату, где прожил всю жизнь. На первых порах она и питалась там. Но через некоторое время мать чопорно-злющим жестом показала: мол, так и быть, можешь садиться с нами за один стол.
Она могла себе это позволить. Потому что свои обиды уже выместила.
Теперь она была совсем старуха — вроде как толстый мертвый корень. А у этого корня — сила смертного окоченения. Каменная, недвижная хватка.
Нет, не бывать тому, чего он жаждал всеми силами души.
Пожар обрушился на него. Выжег все внутри, сломал. Он изнемог. Теперь в нем была смерть.
Он не властвовал смертью в себе самом. Смерть была сильна, как старый крепкий корень, уходящий прямиком в землю, в такую глубину, что и не нащупаешь — знаешь только, что всё там, внизу, — царство смертного покоя.
Да, ее кожа трепетала под его пальцами. Знал он и что у нее есть глаза, есть взгляд. Но это было превыше его сил, он изнемог. Того, к чему он хотел себя принудить, не будет. Он изнемог. И это стало недостижимо.
Его удел — недвижность, сердце из недвижного камня — не сломаешь, не разобьешь.
Ведь едва она ступила под кров его родного дома, всё точно подменили. Он не мог воспрепятствовать своему превращению и подмене. Смотрел на нее и поневоле видел глазами родителей: мутное, скользкое, ползучее в ней. Она была с той стороны, здесь ей не место, чего ради он с ней связался? Всю ночь он в безмолвии звал утраченное. Что-то в нем воспротивилось. Да-да, именно так. Зов остался без ответа. Все замкнулось. Не снаружи, нет, плоть совершала то, чего жаждала и что ей должно было совершать. Но внутри — внутри что-то непостижимое.
Кто-то в нем воспротивился. И замкнулся. Да, именно так. И он пропал — для девушки, которую привел домой, чтобы жить с нею, и для себя самого. Где-то и кто-то одержал над ним победу. Не девушка, не ее нечаянная беременность, не он сам. Нет, кто-то сокрытый в нем, другой внутри его — сильный, неуловимый, беспощадный.
Он что-то видел. Но было это словно по ту сторону тысячелетия. Теперь он не видел уже ничего. Взгляд потух. Все обращено вниз, неуловимое, чужое.
Чужая плоть с ее вольной нескладностью, с мучительно-сладким, каким-то нечистым запахом.
Он лежал подле этой чужой знойной плоти, ощущая в себе меты и память о влажных жарких играх тел — друг с другом, вокруг друг друга, уходя друг от друга. Он старался вспомнить. Но разрушить недвижность было никак невозможно, пустыня все ширилась. Память — тонкие руки касаются его, скользят по всему телу, проникают и в душу, трогают, ощупывают, неумолимой болью отзываются в душе их ищущие прикосновения, они замирают, ничего не найдя, ничего не понимая. Там пустота.
Казалось, кто-то бросил его на произвол судьбы в ту самую минуту, когда от него зависят две жизни. Что-то подвело, совершило предательство. И теперь он выдан головой, брошен на произвол судьбы.
Руки искали. Но он оставался недвижим: жуткий страх, пошевелиться нет сил, он весь точно камень — не сдвинуть, не поколебать.
Он лежал под покровом сна, ярко, словно летняя ночь, горела плоть, мухи жужжали над его обнаженной грудью, как над покойником. В ярком этом сне он видел, как покров разъедает плоть, два соединенных, будто сросшихся тела шевелятся во тьме, жарко окутанные серой простыней, на тесном, точно гроб, раздвижном диване. Диковинное двойное тело шевелило во сне восемью своими членами, и еще девятым. Чужое тело. Оно отделилось от него и от девушки и двигалось теперь так и этак, живя своею чужой, необузданной, непостижной жизнью. Сквозь сон он чувствовал ищущие беспомощные пальцы. И тогда в этом сне вскипало бешеное, жгучее рыдание. Но тотчас умирало, сухое, неутоленное. Он оставался недвижим, во власти запечатанного, замкнутого, безмолвного.
Итак, эта комната принадлежала им. Мать в нее не заходила, никогда: там начиналась новая страна, и мать с железным упорством не желала иметь к ней касательства, до самой смерти. Верно и то, что девушка из барака и мать весьма по-разному представляли себе, что такое чистота. Вдобавок девушка была в тягости и вообще слабосильная, а к тому же, как Товит мало-помалу начал понимать, какая-то хворая: вечно вялая, потная, в лихорадке. Лицо все более серое. А длинные бессильные руки вроде и не умели толком ничего удержать — не то чтобы она не старалась, наоборот, работала до изнеможения, до мертвенной бледности, прямо за работой вдруг падала, прижав ладонь ко лбу, глаза закатывались, и ее выворачивало наизнанку; и однако же все ее труды были, по сути, бестолковой суетой, сделанного-то не видно — постиранное белье оставалось серым, разве только мокло дольше; пол, бывало, подсохнуть не успеет, а из сырых щелей опять вылезает грязь. Слабые руки бессильно опускались. Но живот рос, поднимался все выше, подпирая грудь, большой, тугой, блестящий (он видел, когда вечером она скидывала платье и шла к нему, медленно, с застывшим в безмолвии, похожим на тень лицом, самый воздух серой ночью кричал и трепетал от безгласного жара и страха вокруг нее) и слишком тяжелый для длинных хрупких ног. Товиту было нечего ей сказать. Что-то в нем завершилось, и отделилось, и отпало, оттолкнув ее, — теперь она стала всего-навсего чем-то вне его, чем-то диковинным.
Усадьба у них была серая, унылая. Пришла осень, холод и вовсе погасил краски. Беременная бродила в соленой мгле, частенько и пропадала — со двора, со взгорка, он видел вдали, у моря, ее силуэт, тяжелый на фоне блеклой водной глади, в туманной, блеклой дымке. Недобрая мысль мелькала в голове: а ведь это был бы выход. Она могла бродить там часами, туда и обратно, туда и обратно. То он видел ее на дюнах, то она исчезала. Но она всегда возвращалась — волосы и одежда пропитаны сыростью, голые, посиневшие от холода ноги (ведь уже октябрь наступил) в царапинах от прибрежной травы, во всем облике судорожная, отчаянная мольба. Мать в ту пору обычно стояла во дворе (она походила на Товита, только покрупнее, широкая и сухопарая; голубые глаза выцвели, казались белесыми, жесткими) и плевала через плечо, будто на кошку, что перебежала дорогу.
На лице у беременной в эти дни можно было прочесть почти один только страх. Она сжалась в комок и застыла так, не желая ничего — ни продолжать все это, ни быть вообще, ни родить. Застыла надолго, все сроки миновали — будто и плоть сжалась в комок, судорожно обхватила плод, не желая продолжать, не желая отпустить его от себя… Но ведь природа терпит препятствия очень недолго, а потом с куда большей силой берет свое, и однажды утром время взяло свое, обрушилось на эту плоть, которая упиралась, хотела остаться бастионом неизменности, — и она родила, в тяжелых родах. Младенец оказался девочкой — голубые глаза, темные волосы, правда, немного погодя они стали клочьями выпадать, и на их месте выросли другие: тонкие, светлые, почитай что белые… Роженица лежала разбитая, бледная, истерзанная. Душно пахло убоиной. А он не мог отыскать в себе ничего, кроме чувства вины.
Его мать сперва даже глянуть на внучку не хотела. Но через несколько дней пришла, с отцом. Товит сказал, что назовет девочку Турагрета — Тура было имя его матери, Гретой звали мать роженицы, ту, что умерла от чахотки, когда Ингрид было всего десять лет. Итак, мать и отец вместе переступили порог комнаты. Там царил густой женский запах, кислый дух промокших от молока полотенец. Увидев малютку, бабушка посерела и задрожала лицом, взяла девчушку на руки. Но роженице в постели она не сказала ни слова… После родов бедняжка поправлялась долго и трудно, несколько месяцев миновало, прежде чем Товит смог пойти с нею и ребенком к пастору, который сочетал браком родителей и окрестил малютку, дав ей имя Турагрета. Ингрид очень исхудала, и хотя на щеках цвел румянец и губы ярко алели, в остальном лицо было снежно-белое, а под глазами лежали густые синие тени, и сами глаза казались непомерно большими, с темным отливом, точно вода, — она и ребенка-то поднять не могла. Бабушка взяла на себя заботы о девчушке, но матери словно и не замечала. Да той уже почти что и не было, через полгода после рождения ребенка она угодила в Брубю, в новый губернский санаторий. Выйти оттуда Товитовой жене Господь не судил — так она и металась на белой постели по бурному морю смерти: чужое, продолговатое, худое, горящее жаром лицо, виски совсем открыты, в испарине, вместо щек залитые тенью глубокие впадины — их выжженная глубина словно говорила: возврата нет. Она лежала с обметанными пересохшими губами, порою лицо темнело и от натуги наливалось кровью, как будто она до сих пор рожала, и тотчас на нее наваливался безудержный кашель: бесконечные приступы свистящего, бессильного кашля — у-кху, у-кху… Сквозь большие окна, дочиста отмытые, с белыми крашеными переплетами, сочился серый свет дня — однообразно, точно ледяная, смертная влага. Снаружи стена черных елей. И все-таки в этой истощенной плоти было еще живо что-то тошнотворно-цепкое, обладавшее беспредельной, хоть и почти невнятной силой — чтобы кашлять; временами глаза шарили вокруг, широко распахнутые, безумные, и не было в них ни следа былой застенчивости.