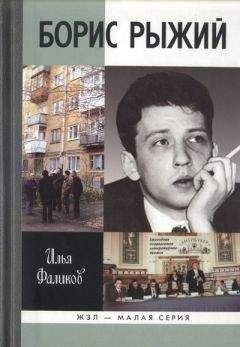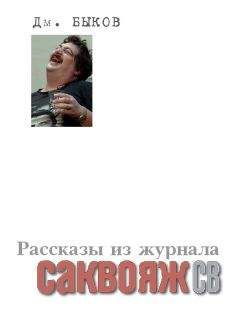Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Русская жизнь»
Так что позиция по отношению к происходящему должна, мне кажется, определяться вот как. Нынешняя Россия действительно достойна презрения и жалости — это уж ваше дело, жалеть ее (если вы сочувствующий) или презирать (если противник). Но так уж получается, что сегодня очередная линия фронта проходит именно через Россию. В сорок первом году она тоже, наверное, была далека от идеала. Но когда от нее зависело, позволить или не позволить фашизму победить, она не позволила и тем спасла человечество. Сегодня через нее, слабую, недостойную, много раз предавшую себя, интеллектуально деградировавшую и, по Розанову, «всеми плюнутую», проходит еще один фронт. Новое средневековье — гедонистическое, ксенофобское, деградантское по сути — желает реабилитировать фашизм и лишить Вторую мировую ее главного содержания. И потому нынешняя Россия, плоха она или хороша, умна или глупа, свободна или несвободна, обязана снова стать у этого средневековья на пути: потому что больше элементарно некому. Всех остальных оно уже съело, и только мы для него слишком велики.
№ 2, 25 мая 2007 года
Логово мокрецов
Как известно, «дача» — от глагола «давать»: с XVI века так называлась особая царская милость, клок земли близ города. Остроумный русский народ впоследствии обыграл это значение: «Гена на даче. — На какой даче? — На даче показаний». Предполагалось, что если у Гены есть дача, рано или поздно с него вполне можно будет снять показания. Насчет судьбы местной элиты тут ни у кого нет иллюзий.
Переделкино — дачный поселок в классическом смысле слова: тут всем все дали, и российская действительность последних семидесяти лет сконцентрировалась в бывшем имении славянофила Самарина с исключительной наглядностью. Я не подобрал бы лучшей иллюстрации к замечательному тезису Пелевина о том, что в советских условиях русское еще сохранялось, но после них кануло безвозвратно: вишневый сад выжил на Колыме, но задохнулся в вакууме.
Идея дачного поселка для писателей — в общем, глубоко некоммунистическая, небольшевистская, скорее намекающая на имперский реванш. Где писатель, там усадьба. Правда, в этом был и хитрый советский умысел — классическая сталинская разбивка общества на профессиональные страты. Когда у каждого профессионала — шахтера, артиста, писателя — появляются свои льготы, объединить страну общим негодованием становится практически невозможно: каждый давно живет, варится, питается, трудится и отдыхает в собственном социальном слое. Так появилась сеть профсоюзных санаториев для пролетариата, бесчисленные «царские села» для академиков и писательские кварталы вроде аэропортовского. Даже наш дачный поселок Чепелово до сих пор строго структурирован, даром что квартируют там теперь внуки прежних владельцев: вот учительские участки, вот товарищество завода «Серп и молот», а вот «Медик».
Но писательский дачный поселок — если не считать правительственных дач, где вся мебель с инвентарными номерами, — был первой советской попыткой раздачи поместий, причем не в обмен на лояльность, а по принципу наибольшей весомости в литературной табели о рангах. Первые дачи достались «попутчикам», причем тем, которые не торопились лобызать благодетелей: Пастернаку, Леонову, Федину, Малышкину, Пильняку, Вс. Иванову, Чуковскому… Есть расхожая шутка о том, что писателей селили вместе, дабы удобнее было наблюдать; не думаю. Доносительство в этой среде и так развито, что называется, выше крыши.
В принципе, если писателей можно поселить в одном дачном поселке, это свидетельствует о серьезном кризисе литературы, потому что во времена ее расцвета между литературными школами и группами существуют отношения столь напряженные, что сама мысль о совместном проживании хотя бы и на лоне самой живописной природы способна вызвать у творцов стойкую изжогу. Вообразите на миг соседство Тургенева и Достоевского — ну курам же на смех! Достоевский писал бы Тургеневу на заборе непристойности, он был человек озлобленный и часто моветонный; Тургенев терпел бы, терпел, да и поджег Достоевскому сарай, а то и ружье свое охотничье разрядил в любимую кошку собрата. А Писарев и Салтыков-Щедрин на соседних участках? Да что брать традиционных оппонентов — любые писатели склонны замечать друг за другом гадости, они, собственно, этим питаются (да и за другими людьми чаще всего примечают именно гнусное, мелкое, — таков пресловутый «талант двойного зренья», за который, по Г.Иванову, все нас так и ненавидят). Представьте себе это кладбище прототипов, этот повседневный мучительный шпионаж: у кого с чем суп, чья жена хуже стирает… С писателями надо было сделать что-то очень серьезное и страшное, чтобы они согласились все вместе жить на природе — и радостно благодарили за такую возможность!
Дача щедрая, нет слов, — но и брача оказалась благодарная: в Переделкине советские гении дружно принялись творить. Атмосфера в поселке воцарилась самая усадебная: достаточно было совсем небольшого усилия воли, чтобы привычное писательское воображение дорисовало крепостных. Правда, батрачили литераторы сами на себя: сразу стало видно, кто чего стоит. У Леонова спорилась любая работа, он выстроил парник, да не парник — оранжерею! Там цвели диковинные кактусы. Он вообще был ловок на любую работу: делал самолучшие в поселке зажигалки, поправлял дом, выстроенный по его же чертежам… Катаев к садоводству был холоден, зато Пастернак до последнего любил работать в огороде и гордился тем, что обеспечивает семью картошкой и клубникой (особенно уродившейся летом сорок первого). Федин не снисходил до всяких окучиваний и прополок, Чуковский тоже, зато именно Чуковскому принадлежит инициатива знаменитых детских «костров», на которых резвились писательские дети.
Разумеется, любить эту советскую литераторскую идиллию можно было только от противного. В городе было совсем уж страшно, а здесь все-таки природа, пресловутый свежий воздух, цветочки-ягодки. И кто сказал, что медведи в одной берлоге не живут? Соседствовали же Твардовский с Трифоновым, два великих и безусловно честных писателя, — и никаких ссор, выпивали, вместе купаться ходили… Участки большие, не хочешь знаться с соседями — не знайся, самостоятельность в строго отведенных пределах. Правда, за плохое поведение усадьбу в любой момент могли отобрать. Вообразим, допустим, Толстого, у которого после отлучения от церкви отчуждают Ясную Поляну в пользу, допустим, местного прихода. Граф-то был бы только рад, давний вопрос о ненавистной собственности разрешился бы сам собою, — но вот незадача, царская власть до этого не додумалась. Советская же запросто могла лишить дачи любого, кто вылетел из писательского союза, — но даже в случае с Пастернаком до этого не дошло. Печатать перестали, переводных пьес не ставили, но картошку свою окучивать — ради Бога. Пастернак-то иллюзий не питал и допускал изгнание из Переделкина, но, к счастью, ошибся. Правда, после смерти писателя дачу могли отобрать в пользу другого писателя, если родственникам не удавалось ее отбить в вечное пользование. Представьте: умер Тургенев, и в Спасском-Лутовинове поселился Глеб Успенский. Он молод, даровит, надо поддержать талант…
Переделкино в советские времена являло собой довольно наглядную картину того, во что превратилась русская классическая культура — прежде всего усадебная, дачная, интеллигентско-дворянская — под действием революционной бури: вышло, в общем, все то же самое, но поплоще, поплоше, помельче, с серьезной количественной и качественной деградацией. Вместо великого утопического проекта отстроилась та же империя, только второго сорта: разумеется, посадки и пытки в ней были поставлены гораздо лучше, и со смертными казнями дело пошло не в пример бойчей, но мы сейчас говорим прежде всего о надстройке — и эпопея Федина соотносилась с традицией русского реализма примерно так же, как дача Федина с усадьбой Льва Толстого. Это было вырождение, но в убогих детях опознавались, по крайней мере, великие отцы.
А дальше с Переделкиным случилось примерно то же, что и со всей Россией: вырождение действительно кончилось, но вместо него наступило перерождение, и сетования на измельчание всего и вся оказались преждевременными. В эпоху вырождения имеешь дело все-таки с людьми, не до конца забывшими о том, что такое честь, совесть, талант и пр. В эпоху перерождения отменяются все понятия, о которых худо-бедно помнили предки, и наступает такая новизна, в которой не находится места даже и самым растленным подлецам былого образца. Разумеется, советское было очень сомнительной вариацией на темы русского, — но постсоветское отменило русскую традицию вообще, и Переделкино из заповедника стукачества и самолюбия, где все же мелькали пять-шесть ярчайших звезд, превратилось в чудовищное сочетание лепрозория с бандитским сходняком.