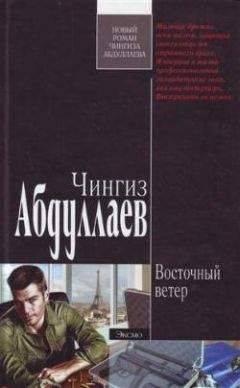Пьер-Жакез Элиас - Золотая трава
У Дугэ было три сына. Мари-Жанн хотела, чтобы они непременно поступили в школу юнг, дабы потом попасть на государственную службу и плавать на больших железных судах, которые не рискуют, разве что во время войны, пойти ко дну. Ее младший братишка, которого в деревне прозвали Золотой Рукав, проходил Дарданеллы под командой знаменитого адмирала Гэпратта. Однажды она свозила сыновей в Брест, чтобы показать им большие суда. Им было очень интересно, они пообещали со временем поступить на службу, надеть синюю форму и заполучить красный помпон, но сердце у них лежало только к рыболовству и к порту Логан. Их отец многого ожидал от баркаса, построенного по его заказу. Двух старших сыновей он взял на борт, как только уверился, что ничто и никто не отвратит его парней от их страсти к морю. Однако и года не прошло после спуска баркаса на море, как он попал в бурю, затерялся в ней, а весь его экипаж пошел ко дну. Отдав дань трауру, третий сын, Ален Дугэ, нанялся на «Золотую траву» Пьера Гоазкоза, этого полоумного. И вот от «Золотой травы», которая вышла в море за час до неистового прилива, в эту рождественскую ночь — ни слуху ни духу.
Когда дед Нонна увидел сквозь туман дом Дугэ, ему стало не по себе при мысли, как он предстанет в одиночку перед Мари-Жанн Кийивик. Раньше-то он довольно часто заглядывал к ней, но тогда, кроме нее и его, всегда присутствовал кто-нибудь из мужчин Дугэ, даже и молча служа переводчиком, а то так и ходатаем за Нонну. Мари-Жанн улыбалась мужу или сыновьям и спрашивала у них, не согласится ли Нонна Керуэдан что-нибудь выпить или съесть, причем, разумеется, одно не исключало другого. Но непосредственно к самому Нонне она никогда не обращалась. И он из вежливости всегда ограничивался восклицанием, заверяя, что не испытывает ни голода, ни жажды. Тогда Дугэ вежливо просил: «Дайте нам, что положено». А Мари-Жанн уже и до его просьбы начинала накрывать на стол. И сразу было видно, что делает она это от чистого сердца.
Так безлично она относилась к любому посетившему ее дом, хотя с каждым была отлично знакома. Но смотрела в лицо она только своим мужчинам. И сразу чувствовалось, что это не притворство, застенчивость или безразличие по отношению к посетителям, — она вела себя так потому, что полагала нескромным посмотреть в глаза чужому человеку. Вот почему входившие в дом Дугэ из боязни перехватить взгляд Мари-Жанн, со своей стороны, старались обращаться только к мужчинам. Этим не ограничивалась необычность ее обихода: посетитель (или посетительница) ощущали странное удовлетворение, когда Дугэ, вступая в игру жены, называл их полным именем и обращался к ним только в третьем лице. В этом как бы сказывалась особая почтительность.
Но существовали и другие странности. Однажды кто-то, не думая плохого, пошел под самыми окнами Мари-Жанн, потому что это была единственная возможность обойти затопленную дорогу. Одно из окон было открыто, и прохожий услышал, как, хлопоча по хозяйству, Мари-Жанн разговаривает со своими погибшими мужчинами, хотя те трое уже давно — на дне океана. Она говорила отчетливо и много, но слушавшему не удалось понять, что именно она высказывает. Вроде бы слова были самые обыкновенные, но совсем непонятные постороннему человеку. Он убежал, как только мог быстро, стыдясь, что подслушал ее исповедь, не имея на то никакого права. Когда он открылся Нонне и Пьеру Гоазкозу (почему именно им двум?), они заулыбались, не давая никаких объяснений. Нонна удовольствовался незначительными словами: она знает, что делает. Ему, мол, и самому не раз приходилось говорить, адресуясь к давно умершим людям.
Сейчас, стоя в туманной ночи перед дверью Мари-Жанн, Нонна колебался, окликнуть ли ее. Что он ей скажет? Почему он приплелся именно сюда? Если бы он отдавал себе отчет в своих поступках, скорее уж пошел бы к дому Пьера Гоазкоза, возможно, даже вошел бы в него. Ведь дверь никогда не запирается, и не к чему ее запирать, она заклята для входа любопытных уже одним тем, какому человеку принадлежит дом. Да, но он-то, войдя, попробовал бы помочь другу, присутствуя в его доме, наполнив его звуками своих шагов, а то и голоса. Однако, помимо воли, он очутился у дома Дугэ. Значит, именно сюда, и никуда больше, должен он был прийти. Чтобы подбодрить себя, он постарался предположить, что окажется желанным гостем. Нечто неопределенное в поведении Мари-Жанн в его присутствии всегда вызывало у него мысль, что между ней и им существует какое-то необъяснимое сообщничество, но разве он знает, в чем именно? Возможно, настало время выяснить.
Он кашлянул. Шорох. Дверь медленно приоткрывается. Наполовину.
— Чего вы ждете, прежде чем войти, Нонна Керуэдан?
— Очень поздно, Мари-Жанн. Я проходил мимо. Разве вы не в постели?
— Он что? Не видит, что я стою перед ним? Как можно лежать в постели, когда на вас навалился такой груз отчаяния? На ногах легче выстоять с ношей такой тяжести, давящей вам на спину, так легче терпеть. Но ведь Нонна-то не из деревни, ему спина никогда ни для чего не служила. И пусть немедленно входит, если не намеревается проследовать дальше.
— Я не хотел беспокоить вас, Мари-Жанн.
— Друзья Дугэ всегда желанные гости в их доме.
Голос мрачный, сдержанный. Вероятно, она подошла совсем близко, но Нонна не различает черт ее лица, хотя она и стоит, наверное, совсем рядом — в приоткрыто» двери. Потом он слышит шаркающий по утрамбованной земле звук сабо, удаляющихся в глубину комнаты. Он решается, не без робости, войти, ощупывая порог своими сабо и взявшись обеими руками за каменную облицовку двери. Снаружи, невзирая на туман, он еще что-то видел сквозь какой-то молочный отсвет. Внутри дома — абсолютная тьма.
— Очень уж здесь темно. Я не различаю даже своих сабо.
— Но звук-то своих шагов он слышит — не так ли? Разве этого недостаточно, чтобы не заблудиться там, где часто бывал?
— И все же маленькую бы керосиновую лампу…
— Маленькая керосиновая лампа послужит только тому, что осветит, как говорится, с головы до ног человеческое несчастье.
— Я предпочитаю видеть себя таким, как я есть, Мари-Жанн. Я привык к жалкому мешку, набитому костями, которым являюсь. Мы с ним сжились, хотя и готовы расстаться, когда придет время.
— Он не понимает, что я хочу сказать. В темноте лучше поджидать людей, которые не возвращаются. Ждать — значит слушать ушами и всем телом. Когда видят — не так хорошо слышат.
— Это я знаю. Мать так же вот поджидала отца, когда тот уходил в море. Ничто другое столь сильно не изнашивает. Она умерла в тот самый год, когда он привел свой последний улов, и, хорошенько его спрыснув, он уже больше ничем не занимался; только и делал, что играл в карты у тетушки Леонии да стоял в порту, глубоко засунув руки в карманы. Вот мать этого и не выдержала. Но мужчины не умеют ждать так, как ждут женщины. С тех пор как окончилась моя служба, когда одно из судов не отвечает на позывные, я торчу всю ночь у маяка вместе с другими, вышедшими в отставку. Мы не отрываем от горизонта глаз, пока их не застят скупые старческие слезы, которые лишь увлажняют глаза, но не скатываются. Иногда мы ничего не видим — проклятый туман столь плотен, что даже свет маяка он поглощает вплоть до самого верха башни. Это поражает даже меня, который провел большую часть своей жизни на маяке, в самом глазу фонаря. Но для нас ждать — значит смотреть в ту сторону, откуда может показаться парус или свет. Встречаются такие, кто утверждает, что если всматриваться в океан неослабно, это помогает парням держаться на воде и лодка не погружается. Но сам-то я не знаю, так ли это.
Дед Нонна умолк. Он задохнулся от столь длинной речи. Вот он обескураженно стоит тут в темноте с этой женщиной, которая не подает признаков жизни, а он даже не знает, впереди или сзади него она находится, сидит или стоит, и обнаружит ли она себя, произнося молитвы или проклятья; единственно, чего он от нее не ждет, — это слез. Молчание длилось примерно столько времени, сколько требуется для десяти ударов сердца. Неловкость, испытываемая Нонной, перерастает в беспокойство. Что, однако, делает Мари-Жанн? Беспокойство перерастает в отчаяние. Он поворачивается к двери, которая всего в трех шагах, он видит ее отверстие несколько яснее, чем все остальное. Хочется ли ему сбежать или на пороге он себя почувствует увереннее? В тот миг, когда он собирается двинуться, тень Мари-Жанн пересекает ему дорогу. Путь к бегству Нонны, если дело шло о бегстве, отрезан. И тут же раздается надрывный голос женщины.
— А если то, о чем он говорил, правда? Не должен ли он был оставаться у маяка, чтобы помочь парням на воде силой своего взгляда? Но ведь они, мужчины, они все лишены истинной веры. Не одни только старики, которые жуют жвачку на набережной, бесполезные для кого-либо, кроме самих себя, безразличные ко всему, — им только и заботы, что греть кости на солнце. Молодые люди из судовых команд тоже уже не умеют защищаться от древнего океана. А ведь это их дело, а не женское. Снабжающая их сердце кровью вена не уподобилась ли мочевому пузырю свиньи! Мой Муж Дугэ пережил три кораблекрушения. Три раза он вернулся на берег, никто не знает, каким образом. Но он-то знал. Говорил мне, смеясь: «Женщина, я цепляюсь за жизнь зубами». А у молодых современных моряков гнилые зубы. Вот и мой сын Ален похож на других.