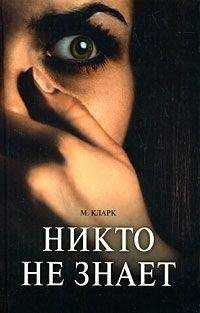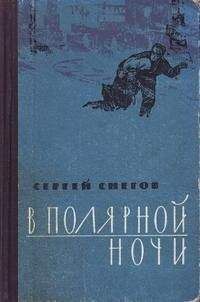Ханс Браннер - Никто не знает ночи
Встань, сказал себе Томас, встань и уйди. Это совсем нетрудно: наклоняешь корпус чуть-чуть вперед и разгибаешь колени, а потом опираешься на одну ступню, приподнимаешь другую и идешь – уходишь – прочь из своего дома, который для тебя никакой не дом, прочь от своей супружеской жизни, которая никакая не супружеская жизнь, от людей своего круга, которые не настоящие люди, а всего лишь тени, проекции-проекции чего? Что тебя здесь держит? Уйди же отсюда. От тебя не требуется важных решений, нужны только легкие механические усилия. Ты даже можешь нисколько не беспокоиться, что из-за твоего ухода что-то случится, ибо не случится решительно ничего. Никто здесь о тебе не пожалеет, и ты ни о ком не пожалеешь. «Встань же,– сказал он вслух и остался сидеть. – Встань и уйди», – повторил он. И остался сидеть…
– Ты только послушай Тома, – раздался голос оттуда, где был свет, и танцы, и музыка.
– Да, Мас уже опять разговаривает сам с собой, – ответил другой голос.
…Налил себе новый стакан виски и плеснул в него чуточку мадеры, чтобы отбить вкус спирта (неужели этот Габриэль не может организовать хоть немножко настоящего шотландского?) и, тщательно выбирая, выудил ложкой в серебряном ведерке два подходящих кусочка льда, и добавил содовой, и, подняв стакан, посмотрел сквозь него на свет и на танцующих, и вспомнил опять аквариум с золотистыми тенями, которые плавали и плавали по кругу и подыхали одна за другой. «А потом она принесла мне вуалехвосток, – сказал он, – а потом тропических рыбок, и тропических птичек, и болотных черепах, и японских танцующих мышек, но я предоставлял им самим о себе заботиться и самим умирать, а в конце концов я и ей предоставил самой умереть». Он произнес это, не разжимая губ, только язык ворочался во рту, беззвучно выговаривая слова, между тем как он опять сидел тихо, совсем тихо, у постели матери и смотрел, как она соскальзывает в небытие, переходя от сна к беспамятству и от беспамятства к невозможной, немыслимой смерти. «Я знал, что она сделала, – сказал он, – потому что пузырек со снотворными таблетками стоял пустой, а она так часто грозила мне этим. Я никогда не верил в серьезность ее слов. Быть может, она и на этот раз ничего всерьез не замышляла, рассчитывала, наверное, что я вовремя поспею домой и приму меры, во всяком случае, ясно, что она пожалела о сделанном и хотела позвонить по телефону, трубка-то валялась на полу. Почему я сам не позвонил и не вызвал врача? Пьян был? Меня не было дома целые сутки, где я провел ту ночь? Когда я напиваюсь, я потом ничего не помню. Может, все это мне только примерещилось или, может, я просидел возле нее всего минуту, а не несколько часов?» Но видение не отпускало его, он по-прежнему сидел недвижно у постели матери и не сводил глаз с телефонной трубки, которая валялась на цветастом ковре среди грязных чашек и тарелок, и в конце концов он как будто бы поднял ее и положил на место, в вилку аппарата, и, продолжая держаться за нее рукой, смотрел на диск с буквами и на слово помощь в вырезе последнего кружочка. Но он не снял трубку и не повернул диск, взгляд его оторвался от телефона и заскользил по столу – к стакану с водой, на стенках которого застыли белые пузырьки воздуха, потом к порожней бутылочке из-под лекарства с мелкими машинописными буковками на этикетке, а позади стола краснело шелковое одеяло, все в пятнах, потому что она имела обыкновение есть в постели, и он долго рассматривал пятна от подливок, от вина и кофе, от яичного желтка и лишь после этого перевел наконец глаза на ее растрепанные черные волосы и впервые заметил, что она их красит: у корней они были белые как мел; а лицо под шапкой волос было землистого цвета, одутловатое, с крупными порами под слоем румян и пудры, и, пока он сидел смотрел, рот ее, пыхая, то и дело открывался, как у рыбы, и вытекавшая из него зеленовато-желтая слизь тонкой струйкой сбегала по подбородку. Но он не дал себе труда вытереть ей рот, он просто перестал смотреть на ее лицо, и взгляд его начал бесцельно блуждать по горным кряжам и теснинам красного шелкового одеяла, пока на его пути не выросла голая ступня, торчащая над краем кровати, – длинная ступня с дельтой вздувшихся синих жил на подъеме и уродливыми пальцами с покрытыми красным лаком ногтями. Он сидел, уставившись на ее ступню, пока у него не стало плохо во рту, и тогда он потянулся за стаканом и отпил глоток. Но у воды был мертвенно-пресный вкус, он встал, чтобы пойти в ванную комнату, потому что его тошнило, но вместо этого направился к окну, распахнул его и, высунувшись наружу, стал смотреть на большой запущенный сад, куда годами никто не захаживал, – буйно разросшиеся деревья и кусты уже наливались тьмою. Спустя какое-то время ему показалось, что ее прерывистого дыхания больше не слышно, но, когда он подошел к постели и сел, она вдруг опять задышала с протяжным клокочущим хрипом. Периоды полной тишины становились все продолжительней, он замерял их, следя за секундной стрелкой на часах, и думал, что теперь уже скоро конец, но шелковое одеяло всякий раз снова приподнималось, и снова слышался клокочущий хрип. От постоянного ожидания этого звука его стало клонить ко сну, и ему чудилось, что клокотание доносится откуда-то издалека, из-за горизонта или со дна моря. Между тем сумерки вползли через открытое окно, и комната словно наполнилась мелкой угольной пылью, стрелок на часах стало не видно, а лицо на постели, утратив четкие черты, расплылось в бледное пятно. Он не помнит, то ли он задремал – кажется, он не спал всю предыдущую ночь, – то ли просто забылся от скуки, как бы там ни было, очнувшись, он обнаружил, что уже совсем стемнело, а дыхание, незаметно для него, полностью прекратилось. Он зажег свет, задернул гардины и позвонил ее врачу, при этом старательно избегая смотреть в сторону постели, потому что знал, что она лежит с открытым ртом, зияющим круглой дыркой. За несколько минут, что прошли до прибытия врача и кареты «Скорой помощи», он навел порядок и вынес в кухню наставленную на полу за последние дни грязную посуду, а покончив с этим, бесшумно прикрыл за собой дверь, не оглянувшись на круглую черную дырку, и прошел к себе в комнату, где сбросил пальто – выходит, он все это время просидел в пальто? – налил в раковину холодной воды и вымыл лицо и руки, пригладил расческой волосы. Лицо у него было бледное от попоек и недосыпания, но глаза в зеркале, совершенно спокойные, сказали ему, что все сложилось как нельзя лучше, исключительно удачно для него, и теперь главное – вести себя вяло и апатично и как можно меньше помнить. «Как можно меньше помнить и держаться как можно ближе к истине, иными словами, обеспечить возможно большее соответствие между возможно большим количеством членов уравнения и при этом уменьшить неизвестное до бесконечно малой величины, которую никто не заметит». Он говорил это вслух, пока спускался по лестнице и затем, выйдя из дома, прохаживался взад и вперед по переулку в ожидании звуков и голосов. Остальные события той ночи почти целиком выпали из памяти, он помнит только, что все обошлось со скучной простотой и легкостью. Звуки и голоса ворвались в дом, ноги забегали вверх и вниз по лестнице, двое мужчин в униформе внесли и вынесли носилки – ему даже слова сказать не понадобилось, и потом он уже увидел мать только после того, как ее прибрали и уложили в гроб: руки покоились на груди, а закрытый рот выглядел вполне пристойно. Стоя у гроба, он боялся, как бы ненароком не Улыбнуться, потому что ее размалеванное лицо стареющей блудницы с глубокими хищными складками вокруг рта вдруг как будто расправилось, разгладилось и обернулось простодушным лицом изумленной девочки, которая, пробудившись под утро от сна и увидев, что действительность нисколько, ничуть не похожа на ее сбивчивые ночные грезы, приоткрыла было рот, чтобы что-то сказать – о чем-то спросить, – да так и не успела произнести ни звука, было уже слишком поздно.
«Я их всех надул, – сказал Томас. – Надул родню и старого домашнего врача, который веровал в Бога и хотел вывести меня из состояния тупой апатии с помощью формул самовнушения («Я с каждым днем становлюсь бодрее, сильнее, здоровее»); надул невропатолога, который веровал, что все психические симптомы имеют физиологическую подоплеку. и, поместив меня в голом виде на обтянутую белой клеенкой кушетку, простукал со всех сторон молоточком и поставил диагноз: гиперестезия [2] («В остальном вы совершенно здоровы, все у вас в норме. Световые ванны и лецитин – больше ничего не требуется»); надул психоаналитика, который веровал в метод свободных словоизлияний и предложил мне говорить, что в голову взбредет, а сам сидел за ширмой и конструировал свое эдипово построение, соединяя между собою слова, произвольно выхваченные из хаотического потока моей речи («В том, что сами вы считаете абсолютно бессмысленным и невероятным, – как раз в этом-то и кроется истина»). Надуть их всех не составило труда, ибо они действуют каждый в соответствии со своей заранее заданной схемой, системой уравнений, смысл которой сводится к тому, чтобы уменьшить, а в конце концов и вообще приравнять к нулю неизвестное, то неизвестное, которое одно имеет решающее значение. Им и в голову не пришло, что, возможно, ответственность за смерть матери лежит на мне, ни у кого не мелькнула догадка, что это я ее убил, преднамеренно и сознательно, и даже если бы я сам открыл им правду, они отмели бы ее как лжесвидетельство, они бы и тогда не колеблясь меня оправдали. Ведь я же ничего не сделал. Да, я убил свою мать именно тем, что ничего не сделал, буквально палец о палец не ударил, причем зрелище ее смерти вызывало у меня не больше эмоций, чем золотые рыбки, всплывавшие на поверхность воды брюшком вверх. Я не чувствовал ни горя, ни своей вины, одну лишь скуку, смертельную скуку…»