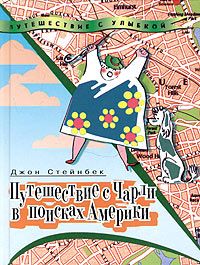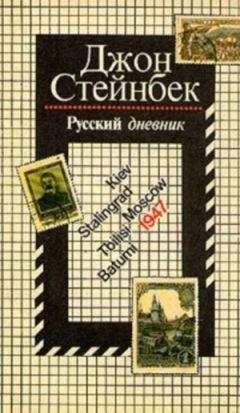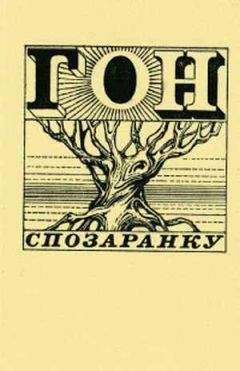Джон Стейнбек - Путешествие с Чарли в поисках Америки
Я жил в хорошем климате и сыт им по горло. Для меня погода важнее климата. В Куэрнаваке, в Мексике, где мне пришлось жить, климат, насколько это мыслимо, близок к совершенству, но я замечал, что если кто уезжает оттуда, так на Аляску. Хотелось бы мне посмотреть, долго ли житель Арустукского округа сможет терпеть Флориду. Вся беда в том, что если он перевел туда свои сбережения и вложил их в недвижимость, ему не так-то просто вернуться назад. Кости брошены, и обратно в стаканчик их уже не соберешь. Но когда такой вот переселенец в один прекрасный октябрьский вечер сядет там во Флориде в нейлоново-алюминиевое кресло на неизменно зеленой лужайке и будет хлопать москитов у себя на шее, неужели же воспоминания не ударят его ножом в подвздошную область, где всего больнее? И пусть он попробует сказать, что в насыщенное влажностью вечное флоридское лето его живое воображение не подсовывает ему ликующей пестроты листьев, щипков чистого морозного воздуха, запаха горящих сосновых поленьев и ласкового кухонного тепла. Ибо кто оценит палитру красок, когда вокруг одна лишь вечная зелень, и что хорошего в тепле, если холод не подчеркнет всей его прелести?
Я ехал медленно, насколько это дозволяли сердитые дорожные законы и дорожная практика. Только так и можно что-нибудь увидеть. Через каждые несколько миль таблички указывали путникам на зоны отдыха в стороне от магистрали — оборудованные властями штата участки, иной раз возле какой-нибудь темноводной речушки. Там стоят покрашенные баки из-под смазочного масла — для мусора, легкие обеденные столики прямо под открытым небом, а кое-где увидишь и очаг и яму, где можно поджарить целую мясную тушу. Время от времени я уводил своего Росинанта с шоссе и выпускал Чарли на волю обнюхивать визитные карточки предыдущих посетителей здешних мест. Потом кипятил кофе, удобно усаживался на ступеньку своего домика, сидел и смотрел, смотрел на лес и речку и на стремительно взмывающие к небу горные вершины в коронах из сосен и елей, припорошенных снегом. Много лет назад мне подарили на пасху стеклянное яйцо. В маленький глазок на узком его конце была видна чудесная крошечная ферма, такая только во сне может присниться, и на дымовой трубе ее домика сидел в гнезде аист. Я был уверен, что эта ферма невсамделишная, сказочная, как гномы, которые ютятся под поганками. А потом в Дании вдруг увидел: вот она — та самая, что в пасхальном яйце, или ее родная сестрица. В Калифорнии, в городе Салинасе, где я вырос, кое-когда бывали и заморозки, но дни зимой большей частью стояли прохладные и туманные. Когда мы видели на цветных картинках вермонтские осенние леса, нам казалось, что это из сказки, что на самом деле такого быть не может. В школе нас заставляли учить наизусть «Погребенные в снегах»[5] и разные стишки про деда-мороза, вооруженного малярной кистью, но единственное, что дед-мороз дарил нам, — это тоненькую корочку льда в поильной колоде, да и то в кои веки раз. А потом я сделал открытие, буквально потрясшее меня: оказалось, этот хаос красок не только соответствовал действительности, но те картинки лгали, как лжет бледный, неточный перевод. Мне даже трудно бывает представить себе, какой он, осенний лес, когда я его не вижу. Но если такие краски всегда перед глазами, может, люди перестают замечать их, подумал я, и спросил об этом одну постоянную жительницу Нью-Гэмпшира. Она сказала, что осень не перестает восторгать ее, не перестает вызывать душевный подъем.
– Это же такое великолепие! — говорила она. — Его раз и навсегда не запомнишь, оно каждый год ошеломляет заново.
Я увидел, как со дна глубокой запруды в речке поднялась форель, и по воде, один другого шире, пошли серебряные круги. Чарли тоже ее углядел и полез за ней и весь вымок, дурачина. Не дано ему дара предвидения! Я вошел в домик за мусором и собрал свою посильную лепту для крашеного бака — две пустые консервные банки. Содержимое одной съел я, содержимое другой — Чарли. И среди книг, взятых в дорогу, увидел одну в хорошо знакомом мне переплете и вынес ее на солнце: золотая рука держит змею и зеркальце с крылышками, а понизу — рукописным шрифтом: «Спектэйтор», редакция текста Генри Морли.[6]
Мне, как писателю, видимо, посчастливилось в детстве. Мой дед Самюэл Гамильтон любил книгу и умел отличать хорошую от плохой. Кроме того, у него было несколько дочерей из породы синих чулков — среди них моя мать. Вот почему в Салинасе за стеклянными дверцами большого темного шкафа орехового дерева можно было найти немало всяких чудес и соблазнов. Мои родители никогда сами не давали мне что-нибудь почитать оттуда, стеклянные дверцы зорко охраняли свои сокровища, и я был вынужден потаскивать их. Ни запрещений, ни острастки на этот счет не было. Теперь мне кажется, что если бы мы запретили нашим неграмотным деткам касаться тех богатств, которыми славится наша литература, они стали бы воровать их и находить в чтении тайную прелесть. Я полюбил Джозефа Аддисона в ранние годы и храню эту любовь по сию пору. Он играет на инструменте нашего языка, точно знаменитый Пабло Казальс на виолончели. Не знаю, повлиял ли Аддисон на мой стиль, но хотелось бы думать, что не без этого. В 1960 году, сидя на солнышке в Белых горах, я открыл так хорошо знакомый мне первый том сочинений Аддисона, год издания 1883. Нашел воспроизведенный там первый номер «Спектэйтора» от четверга, марта первого дня, год 1711. В начале стоял эпиграф:
Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem
Cogitat, et speciosa dehinc miracula promat.[7]
Помню, как мне всегда нравилось, что существительные у Аддисона все с прописных букв. Под этой датой идет следующее:
«Мне случалось наблюдать, что Читатель редко вкушает Удовольствие от Книги, покуда не узнает, каков собой Написавший ее — темные ли у него Волосы или белокурые, кроткого ли он Нрава или желчного, женат или холост, и прочие тому подобные Сведения, кои способствуют Знакомству с Сочинителем. В Угождение такой Любознательности, вполне, однако, простительной, я положил и в этом и в следующем Выпуске вступить с Читателем в Беседу, предварив ею дальнейшие мои Писания и дав ему Отчет о тех, кто принимает Участие в наших совместных Трудах. Поскольку же и Составление, и Приведение в Порядок, и Сверка Рукописей падет на меня, я полагаю, что имею Право открыть сию Тетрадь с Рассказа о самом себе».
Суббота, Января двадцать девятого Дня, Год 1961. Да, Джозеф Аддисон, я внимаю тебе и постараюсь выполнить твое Наставление в разумных Пределах, ибо Любознательность, тобою подмеченная, нисколько не уменьшилась со Временем. Как мне известно, многие Читатели интересуются не столько моими Мыслями, сколько тем, что я ношу из Одежды, и тщатся узнать, не над чем я тружусь, а как это у нас, у Сочинителей, делается. Что же до моих Писаний, то некоторых Читателей больше волнует не Работа моя, а мои Заработки. И поскольку Заветы Мастера есть Закон, подобно Слову Божьему, я подчиняюсь им и в то же Время позволю себе отступить от своего Повествования.
В общей массе мужчин меня можно назвать высоким: шесть футов ровно, однако среди моих родственников мужского пола я считаюсь карликом. Ростом они кто шести футов двух дюймов, кто еще дюйма на два, на три выше, а оба моих сына, когда окончательно вырастут, безусловно, отца перегонят. Я широкоплечий и при теперешних моих габаритах узкий в бедрах. Ноги у меня длинные, вполне пропорционально туловищу и, по имеющимся отзывам, стройные. Волосы с проседью, глаза голубые, а щеки красные — цвет лица я унаследовал от матери-ирландки. Ход времени не прошел незаметно для моей физиономии, и оно отметило его шрамами, сеткой морщин, глубокими бороздами и щербинками. Я ношу бороду и усы, но щеки брею; вышеуказанная борода с краев седая, а посередке темная, как скунсовый мех, — отпущена в память кое-кого из моих предков. Лелея бороду, я не ссылаюсь, как это принято в ряде случаев, на болезнь кожи или неприятные ощущения при ежедневном бритье, не стараюсь спрятать под ней безвольный подбородок, а не краснея признаюсь, что считаю ее украшением своей физиономии, подобно павлину, который гордится своим хвостом. И, наконец, борода в наши дни — это единственное, в чем женщина не может перещеголять мужчину, а если и перещеголяет, то успех ей обеспечен только в цирке.
Мой костюм наилучшим образом подходил для дороги, хотя и отличался некоторым своеобразием. Невысокие резиновые сапоги с пробковой стелькой позволяли мне держать ноги в тепле и в сухе. Бумажные штаны цвета хаки, купленные на распродаже военного обмундирования, прикрывали моя бедра и голени, а тулово нежилось в охотничьей куртке с вельветовыми обшлагами и воротником и на заду с карманом для дичи — такой глубины, что в нем можно было бы протащить контрабандой индийскую принцессу в общежитие ХАМЛ.[8] Фуражку свою я ношу уже много лет — это синяя английская капитанка с маленьким козырьком и с кокардой, на которой королевский лев и единорог все еще дерутся из-за английской короны. Фуражка эта весьма непрезентабельна на вид и вся пропитана морской солью, но мне подарил ее командир того самого миноносца, на котором я отплыл из Дувра во время войны, — кроткий был человек, всем джентльменам джентльмен и убийца. Уже после того, как я вышел из-под его начала, он атаковал немецкий торпедный катер, но огня по нему не стал открывать, чтобы не повредить, потому что такие в плен еще не попадались, а кончилось это тем, что его самого пустили на дно. С тех пор я и ношу эту фуражку в его честь и в память о нем. Кроме того, она мне нравится. Мне в ней хорошо. В восточных штатах этой фуражкой никто не интересовался, зато в Висконсине, Северной Дакоте и Монтане, когда море осталось у нас далеко позади, на нее, по-моему, стали поглядывать, и тогда я купил ковбойскую шляпу, так называемый стетсон, — не очень широкополый, добротный, хоть и несколько старомодный головной убор вроде тех, что носили на Западе мои дядюшки-скотоводы. К морской фуражке я вернулся только в Сиэтле, когда выехал к другому океану.