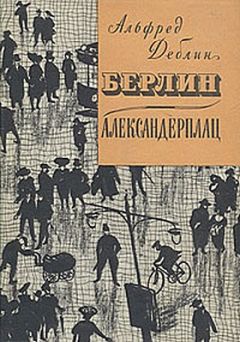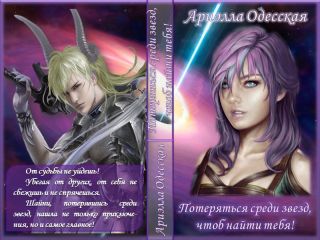Альфред Дёблин - Берлин-Александерплац
Дзинь-дзинь.
— Кто там?
— Я.
— Кто такой?
— Да открывай же.
— Боже мой, это ты, Франц?
— Открывай!
Руммер ди буммер ди кикер ди нелль. Руммер… Какая-то нитка на языке — куда бы сплюнуть?.. Вот он стоит в коридоре, она запирает за ним входную дверь.
— Чего тебе у нас нужно? А ну как тебя кто-нибудь видел на лестнице?
— Не беда. Ну их всех к… Здравствуй!
И идет, не спросясь, налево в комнату. Руммер ди буммер… Проклятая нитка, так и не сходит с языка. Потрогал пальцем кончик языка — никакой нитки нет, чудится, будь оно проклято! Ну, вот мы и дома. Диван с высокой спинкой, а на стене старый кайзер, и француз в красных шароварах вручает ему свою шпагу — сдаюсь, мол…
— Чего тебе тут нужно, Франц? С ума сошел, что ли?
— Присяду-ка я лучше.
Сдаюсь, сдаюсь! Но кайзер возвращает ему шпагу, а как же иначе — так уж положено.
— Уходи сейчас же! Слышишь? А то я людей позову, полицию!
— Да к чему?
Руммер ди буммер… Путь неблизкий, раз уж пришел, тут и останусь…
— Да разве тебя уже выпустили?
— Да, отсидел свое. — И таращит на нее глаза, встает: — Выпустили меня, вот и пришел. Выпустить-то выпустили, но что со мной сделали…
Он хочет объяснить, что сделали, но давится своей ниткой во рту; доконали меня, все кончено, — он весь дрожит и не может даже взвыть, и только смотрит на ее руки.
— Да что с тобой, Франц? Что случилось?
И стояли горы, тысячи и тысячи лет, и войско за войском шли по ним с пушками, со знаменами; и острова из моря вздымаются, а на них людей видимо-невидимо. Все процветает, все надежно — торговые фирмы, банки, заводы, дансинги, бордели, импорт, экспорт, социальный вопрос и прочее. И вдруг в один прекрасный день — трах-тарарах, да не с дредноутов, а изнутри взорвется! Земля даст трещину. И — сладко пел душа-соловушка… корабли — взлетят на воздух, птицы — упадут на землю.
— Франц, я закричу! Слышишь? Пусти меня, пусти, Карл сейчас придет! С минуты на минуту! С Идой ты тоже так начал.
Во сколько ценится жена между друзьями? Из Лондона сообщают — лондонский бракоразводный суд вынес по делу капитана Бекона решение о расторжении брака в виду прелюбодеяния жены истца с его сослуживцем капитаном Фарбером и присудил истцу возмещение убытков на сумму в 750 фунтов стерлингов. Как видно, истец не слишком высоко ценил неверную супругу, которая в ближайшее время намерена выйти замуж за своего любовника.
Веками стояли горы нерушимо, и проходило по ним войско за войском с пушками и с боевыми слонами, и вдруг полетят эти горы вверх тормашками, расколются в щебень — где-то внизу, в глубине — трах-тах-тарарах — и конец. Тогда уж ничего не поделаешь. И говорить об этом не стоит.
Минна не может высвободить руку, и его глаза перед самыми ее глазами. Бывает так — у мужчины по лицу словно рельсы проложены, а по рельсам поезд мчится, грохот, клубы дыма, — курьерский Берлин-Гамбург-Альтона, отправление в 18.05, прибытие — в 21.40, весь путь в три часа тридцать пять минут; и ничего не поделаешь, мужские руки словно железо. Железо — не вырвешься! Буду кричать… Она кричит, зовет на помощь… А сама уже лежит на ковре. Щетинистые щеки мужчины — вплотную к ее щекам, его губы жадно тянутся к ее губам. Она старается увернуться, молит:
— Франц… о боже… пощади… Франц.
И вдруг ей все стало ясно.
Теперь она знает (ведь она же сестра Иды!), — так он иногда глядел на Иду. Это Ида в его объятиях, потому он и зажмурился и светится от счастья. И будто не избил он ее до смерти, и в грязи не завяз по уши, и не было тюрьмы. А был Трептовский сад «Парадиз», где они познакомились на гулянье, смотрели фейерверки, а потом он проводил ее домой, маленькую швею, она выиграла тогда фарфоровую вазочку в балагане, а на лестнице он с ее ключом в руках впервые поцеловал Иду, и она поднялась на цыпочки; она была в парусиновых туфельках, ключ упал на пол, а Франц не мог уж больше от нее оторваться… Да, это прежний, славный Франц Биберкопф.
А теперь он снова вдыхает ее запах, там, в ямочке под шеей, это та же кожа, тот же запах, от него кружится голова, — что-то будет? И у нее, у сестры, какое у нее странное чувство! Это все — от лица его, от того, как он молча прижимается к ней. И она уступила — еще сопротивляясь, она вся преобразилась, лицо разгладилось, ее руки не в силах больше его отталкивать, безвольными стали губы.
А Франц молчит, и губы ее поддаются, поддаются, поддаются ему… Она обмякает, как в ванне: делай со мной, что хочешь. Растекается все, как вода. Хорошо, пускай, я все поняла, — и я не хуже той, и я тебе мила.
Очарование, трепет… Блестят золотые рыбки в аквариуме. Сверкает вся комната, это уж не Аккерштрассе, не дом, и нет силы тяжести, нет центробежной силы. Исчезло, словно и не было, отклонение красных лучей в силовом поле солнца, нет больше ни кинетической теории газов, ни теории превращения теплоты в работу, ни электрических колебаний, ни электромагнитной индукции, ни плотности металлов, жидкостей и неметаллических твердых тел.
Она лежала на полу, металась из стороны в сторону. Он засмеялся и, потянувшись, сказал:
— Ну, задуши же меня, если силенки хватит. Я не шевельнусь.
— Стоило бы.
Он поднялся на ноги и закружился по комнате вне себя от счастья, восторга, блаженства. Вот трубы затрубили, гусары, вперед! аллилуйя!.. Франц Биберкопф вернулся на свет божий! Франца выпустили! Франц Биберкопф — на свободе! Подтягивая брюки, он переминался с ноги на ногу. Она села на стул, расхныкалась было.
— Я все расскажу мужу, все расскажу Карлу. Надо было тебя еще четыре года там продержать!
— Валяй, Минна, скажи ему все, не стесняйся!
— И скажу, а сейчас пойду за полицией.
— Минна, Миннакен, ну не будь же такой, у меня душа радуется! Я ведь снова человеком стал, понимаешь?
— Я говорю, ты с ума спятил. Тебе мозги повредили в Тегеле.
— Эх, пить хочу — кофейку не найдется у тебя или чего другого?
— А кто мне заплатит за передник, гляди — весь разодран.
— Да кто же, как не Франц? Он самый! Жив курилка! Франц снова здесь!
— Возьми-ка лучше шляпу да проваливай! А то, если Карл тебя застанет, а у меня синяк под глазом… И больше не показывайся. Понял?
— Адью, Минна!
А на следующее утро он опять тут как тут, с небольшим свертком. Она не хотела его впустить, но он всунул ногу в приоткрытую дверь. Минна шепотом сказала ему в щелку:
— Сказано тебе, Франц, ступай своей дорогой.
— Да я, Минна, только передники принес.
— Какие еще передники?
— Вот тут… Ты выбери.
— Нужны они мне! Спер небось?
— Не спер! Да ты открой.
— Уходи, а то соседи увидят.
— Открой, Минна.
Наконец она открыла; он бросил сверток на стол, а Минна, с веником в руках, не отходила от двери, — тогда Франц стал один кружиться по комнате.
— Эх, Минна. Вот здорово! Весь день душа радуется. А ночью ты мне снилась.
Он развернул сверток: она подошла ближе и выбрала три передника, но, когда он схватил ее за руку, — вырвалась. Он убрал остальные, а она стояла перед ним, не выпуская веника, и торопила его:
— Да скорее же! Выметайся! — Он кивнул ей еще в дверях:
— До свиданья, Миннакен! — Она веником захлопнула дверь.
Неделю спустя он снова стоял перед ее дверью.
— Я только хотел узнать, как у тебя с глазом.
— Все в порядке, а тебе тут нечего делать.
Он поздоровел, сил набрался; на нем было синее зимнее пальто и коричневый котелок.
— Хотел вот показаться тебе, — как ты меня находишь?
— И смотреть не хочу.
— Ну, угости хоть чашкой кофе.
В этот момент наверху стал кто-то спускаться по лестнице, по ступенькам скатился детский мячик. Минна в испуге открыла дверь и втащила Франца в квартиру.
— Постой-ка минуточку тут… Это Лумке, соседи сверху… Ну, а теперь убирайся!
— Хоть бы кофейку выпить… Неужели у тебя не найдется для меня чашки кофе?
— Ты что, за этим только и пришел? Завел уж, наверно, какую-нибудь. Ишь вырядился!
— Ну угости кофейком!
— Ох, горе мне с тобой!
Она остановилась в прихожей у вешалки, и он умоляюще взглянул на нее; она покачала головой, закрыла лицо красивым новым передником и заплакала.
— Не мучь ты меня, Франц.
— Да что с тобой?
— Карл не поверил мне про подбитый глаз. Как, говорит, можно так ушибиться о шкаф? Ну-ка продемонстрируй, как это вышло у тебя. Как будто нельзя подбить глаз о шкаф, когда дверца открыта. Пусть сам попробует… А он вот не верит, и все.
— Почему бы это, Минна?
— Может быть потому, что у меня еще и здесь царапины, на шее. Их я сперва-то и не заметила. Но что ж тут скажешь, когда тебе их показывают, а ты смотришься в зеркало и не знаешь, откуда они?
— Вот еще, может же человек поцарапаться — расчесать, к примеру, или еще как. И вообще, чего он над тобой так измывается, твой Карл? Я бы его живо успокоил.