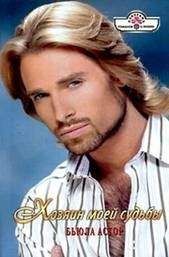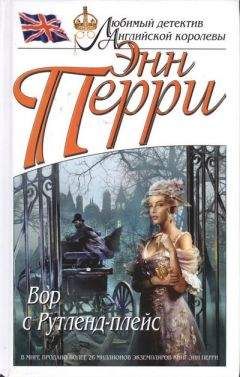Абель Поссе - Путешествие в Агарту
Я принялся перечитывать некоторые отрывки из работ Вуда по археологии Перу. Я внимательно изучил их на Пюклерштрассе во время подготовки, но здесь они производили на меня совсем другое впечатление. Я чувствовал себя призраком Роберта Вуда, читающим самого себя в калькуттской библиотеке. Я снова отыскал групповую фотографию без указания имен, где Вуд стоял рядом с Бингемом. В который раз отметил про себя, что волосы у него были прямее, чем у меня, более германские, без этой вьющейся надо лбом челки. Я постарался как можно внимательней вглядеться в слегка размытую фотографию, и мне показалось, что на губах Вуда мелькнуло подобие усмешки.
Я нашел в его статье о Мачу-Пикчу ту фразу, которую хотел перечитать: «Когда индейские носильщики отодвинули завесу из лиан, нас охватило чувство, которое может испытать лишь альпинист, после долгого восхождения оказавшийся на вершине. Перед нами простирался удивительный город, построенный на грани человеческих возможностей, практически между небом и землей. Без сомнения, это был скрытый от непосвященных город, где вызревали и хранились тайные знания и традиции инкских мудрецов амаутов. Мы были уверены, что обнаружили тот самый «языческий университет», о котором в XVII веке писал в своей хронике монах-доминиканец Галанча».
Угрюмые часы с бронзовым маятником пробили одиннадцать. Как и было условлено, в дверях появился человек, одетый с иголочки, который направился к столу мисс Копперфилд.
Он держался так, будто не был здесь ни полным новичком, ни завсегдатаем. Подождал, пока ему принесут заказанные книги, и направился к одному из длинных столов неподалеку от моего. Он сел на таком расстоянии от меня, чтобы я смог прочесть, что поверх сегодняшней газеты у него лежал именно шестой том Британской энциклопедии. Таков был условный знак, фотографии тоже не оставляли ни малейшего сомнения – это и был резидент, местный уполномоченный нашей разведслужбы, человек Шелленберга, прошедший специальную подготовку, чтобы организовать мое продвижение на север.
Мы как бы невзначай взглянули друг на друга, и я снова погрузился в чтение археологической статьи об открытии затерянного города инков. Я стал рассматривать фотографии невероятного Мачу-Пикчу, этого странного святилища, висящего на скалах высотой в три тысячи метров.
Как только траурные викторианские часы пробили двенадцать, я встал и, как всегда, когда бывал здесь, направился к крошечному бару, чьи окна выходили на цветущую галерею. Я заказал себе сандвич и чай. Вскоре появился и резидент, и мы с ним уселись за столик в саду. Мы завязали ни к чему не обязывающий разговор о погоде, об Индии, о войне. Он представился Милтоном Бруком и сказал, что преподает в Шотландском лицее. Явилась и мисс Копперфилд. Когда она съела свой ланч и вернулась обратно к себе в клетку, Брук шепнул мне, что все в порядке, английские ищейки не ведут за мной особого наблюдения.
– Но главная гарантия нашей безопасности – нестабильность ситуации, – сказал он. За вами не особенно присматривают, потому что они переправляют всех своих людей на африканский фронт. Да и внутри страны все непоправимо рушится…
– Ганди?
– Да. Англичане уже потеряли контроль над многими провинциями. Движение пассивного сопротивления нарастает.
Брук рассказал мне, что люди из внешней разведки, находящиеся у него под началом в Калькутте, не успевают отслеживать все отправки войск и оружия и сообщать о них.
– Полки сипаев за полками… – пробормотал он с мрачным видом.
В нем угадывалась тревога, предчувствие поражения, которое положит конец его властолюбивым планам. Он наверняка уже придумал, куда бежать, чтобы спастись. Обоснуется где-нибудь в дальних краях, прихватив с собой то, что останется от кассы. Было видно, что человек он умный, не зря выбор пал на него. Быстрый, как у птицы, взгляд, свойственный профессии. Роль предателя порядком его утомила. Брук не обладал даром тех шпионов, которые способны относиться к своей работе со спортивным азартом. Я почувствовал какой-то намек на гомосексуальность – подавленную, печальную гомосексуальность преподавателя английского колледжа.
– Мы тщательно изучили две дороги, ведущие на север. Наименее рискованный путь, который, к тому же, вызовет меньше всего подозрений, – это дорога на Дарджилинг,[46] горный курорт, где отдыхают богатые англичане. Это недалеко от границы с Сиккимом. У нас там есть надежные люди.
Брук не советовал мне в нынешних обстоятельствах ехать по Даккской[47] дороге, которую мы в Аненэрбе сочли наиболее безопасной или которая, во всяком случае, почти не контролировалась британцами.
– Там действуют бирманские партизаны, и за последние три недели мы потеряли трех внедренных туда агентов.
Брук дал мне понять, что благодаря своему положению во внешней разведке он имеет некоторое представление о моей миссии, и принялся рассуждать о ситуации в Китае, о разногласиях между националистическими силами Чан Кайши[48] и яньаньскими[49] коммунистами.
– Вот где мы могли бы воспользоваться ситуацией и провести хорошую политическую работу, упреждая события. Только бы не опоздать… – сказал он. – Хотя, по-моему, Индия и Китай уже окончательно ускользнули из рук англичан, какими надеждами бы те себя ни тешили и чем бы ни закончилась война… – решился он высказать свои сомнения.
Пора было расходиться. Он сообщил мне условные знаки, с помощью которых мы могли выйти на связь, и подробности нашей следующей встречи.
Когда я возвращался назад к своему столу, Килни выскочил мне навстречу из своего кабинета:
– Мистер Вуд, давайте как-нибудь на днях обязательно организуем ваше выступление с рассказом об археологических экспедициях по Южной Америке! Вот увидите, какой огромный интерес это вызовет у членов нашего маленького библиотечного клуба!
Я был одет самым подобающим образом. Брук, который как-никак был англичанином, позволил себе поиронизировать: «Прекрасно. Как будто сам Вуд приехал в Индию и все еще следует советам своего отца».
Просторный белый льняной костюм, полосатый шелковый галстук, широкополая шляпа из панамской соломки. В Сингапуре я купил малаккскую[50] трость, которая вполне могла бы сойти за семейную реликвию. Эта вещица – такое же воплощение британского имперского духа, как и колониальный шлем. Это и орудие власти, и проекция указующего перста, и грозящий жезл. Как только я вытягиваю ее, таксисты останавливаются. Когда я иду по улице Гордон, стоит мне выставить ее вперед, как нищие и больные расступаются, давая дорогу. Надо сказать, я без труда научился пользоваться этой тростью. По-моему, ничто так не помогает освоиться в чужой действительности, как хороший маскарадный костюм.
Необходимость быть Робертом Вудом неожиданно стала меня тяготить. Мне приходилось возвращать к жизни человека, к смерти которого я сознательно приложил руку. Меня преследовали неприятные воспоминания о тайном совещании, которое полковник СС Вольфрам Зиверс созвал в нашей резиденции на Пюклерштрассе. Он спросил:
– Итак, все согласны? Мне бы хотелось, чтобы решение было единодушным. Речь идет об агенте, которого мы могли бы обменять на одного из наших людей… Все голосуют за немедленное уничтожение?
Я почувствовал себя зажатым в угол. Сама жизнь припирала меня к стенке. Пока что я был интеллектуалом, человеком, далеким от грязной работы. До сих пор я, по решению моего учителя Карла Хаусхофера, принадлежал к утонченной элите, творившей трудную и величественную духовность национал-социализма.
Когда полковник Зиверс посмотрел на меня пристальным взглядом, я понял, что настало время полностью разделить ответственность. Что Фауст перестал быть классическим текстом моей золотой гёттингенской поры, что и мне теперь придется кровью подписать договор во имя Возрождения. Я сказал:
– Да, я голосую за уничтожение Роберта Вуда.
В тот день было как-то особенно холодно, за окном в темноте шел снег, в луче фонаря виднелись медленно падающие снежинки. Я впервые убил человека и, кажется, сумел осознать это как свой долг.
Калькутта. Каликут. Город, посвященный богине Кали,[51] в смерти зачинающей жизнь. Десятки тысяч существ, выброшенных в жизнь, в простое существование ради смерти, ради наслаждения или боли, которые приносит с собой каждый день. На закате эти миллионы обездоленных улягутся в каких-нибудь грязных углах и вознесут благодарения Кали и Шиве[52] за то, что «протянули еще один день». Вот и все. Пребывать здесь, а не на молчаливых просторах смерти или воплотившись в какое-нибудь животное или чудище, чья жизнь еще тяжелее этой. Они кланяются в темноте и бормочут свои хвалы.
Многоцветие рынков под ослепительным солнцем. Шафрановые, фиолетовые, красные, розовые сари на толстых женщинах, у которых в центре лба нарисована алая точка – космический глаз, врата познания. Эти матроны прохаживаются, улыбающиеся и властные, неся жареную снедь, корзины с пончиками, ленты с молитвами. Пахнет перцем, помидорами, манго, жженым сахаром, ладаном. Грифы кружат над толпой, всегда готовые броситься на причитающуюся им падаль. Покачиваясь, бродят голодные священные коровы, все в язвах и в червях. То тут, то там они роняют ящик лука или помидоров, тогда слышится смех и почтительные возгласы. Они проходят мимо нищего, тот лежит, задрав одежду, демонстрируя свои язвы, словно роскошные награды, которыми одарила его Кали, богиня смерти.