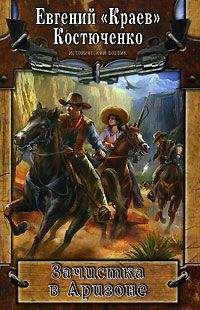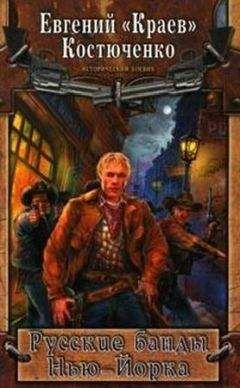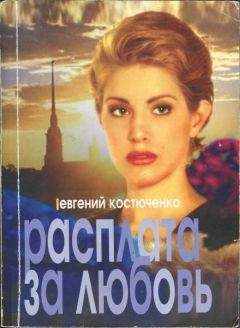Наталия Костюченко - Повесть и рассказы
И тогда, оставаясь на время у нее, листая предложенный ею альбом с фотографиями, я вдруг оценила, какой может быть мужская дружба. И про себя подумала, что если Василий, общаясь с Федором, так поступил, то каким же человеком должен быть сам Федор?
Гордость за него, за Василия, за Лену сдавливала волнением горло. Как ясно и хорошо было на душе оттого, что я, наконец, сделала свой выбор.
Тепло, просто, словно с родным человеком, общалась со мной Лена. И так непохожа она была на сестру Павла Инну.
Вечером, когда стало темнеть, подошли Федор и Василий. Лена налила им в тарелки борщ. Я сидела на диване в их единственной, служившей одновременно залом, спальней и столовой, комнатке и смотрела, как ел Федор. Лицо у него было суровое, сосредоточенное. Глядя в тарелку, даже не бросив ни единого взгляда в мою сторону, как будто меня и не было, он жевал медленно, гоняя под скулами комки желваков.
Поужинав, поблагодарил сестру и, по-прежнему не глядя на меня, подхватил на руки племянницу. Незнакомой мне раньше нежностью осветилось в этот момент его лицо. Девочка притопывала у него на коленях, ухватившись своими маленькими ручками за его огромные темные ладони, и радостно смеялась. Потом подергала его за усы. Федор, в шутку пытаясь ухватить ее губами за пальчик, улыбался. И я в этот момент подумала, как же, должно быть, этот грубый и суровый на вид человек любит детей.
Наигравшись, он опустил малышку на пол и прямо, в упор, посмотрел на меня:
— Ну что, заскучала?
Он поднялся, тут же, у двери, с вешалки, прибитой к стенке, снял мою шубу и подошел ко мне.
— Пора, пойдем.
Я тепло поблагодарила Лену, и, попрощавшись с нею и Василием, мы с Федором вышли на улицу. Было темно. Федор придерживал меня за руку. Под ногами особенно громко в морозной тишине скрипел снег. На безмолвно глядевшем на нас далекими недоступными звездами ночном небе горел тоненький месяц. Я, идя рядом с Федором, с удовольствием, бесшумно глотала морозный сухой воздух — воздух нового и еще не постигнутого до конца счастья.
Федор привел меня в пустую казарму. В огромной комнате стояло много кроватей. На одной из них, с краю, лежала постель и аккуратно сложенное суровое солдатское одеяло. Федор снял с меня шубу, отвел, посторожив у двери, в тоже большой по площади и не совсем уютный и удобный, мужской туалет.
Вернувшись к нашей солдатской кровати, он выложил из кармана на тумбочку зажигалку и сигареты, снял с руки и положил рядом часы. Зажег свечу, взятую у Лены, и выключил электрический свет.
Мы сидели на кровати, не раздеваясь. Я повторила то, о чем до этого сообщила в письме:
— Федя, я все решила. Я буду твоей женой.
Молча, не глядя на меня, он курил.
Я привыкла, мне это даже нравилось в нем, что он мог молчать. Но чтобы так? И тут я в жалком отчаянии вдруг вспомнила мамин сон…
Федор курил одну сигарету за другой. Я смотрела на него и ждала. Ждала, когда он это скажет.
Наконец, он сказал… просто, обыкновенно, не подыскивая особых слов, не оправдываясь и не юля:
— Я женат.
Какое-то время после этого мы так и сидели, молча, рядом, не глядя друг на друга.
И вдруг Федор, словно опомнившись, повернулся ко мне, попытался меня — оцепеневшую, непослушную — обнять.
— Хорошая моя, ты единственная, кого я люблю. Я даже встречаться ни с кем не мог, потому что каждую из них, забывая, называл Наташей. А тут сверхсрочно остался. Жить на квартиру перешел к бабке одной. А у нее — дочь Наташа. Не знаю, как получилось. Влюбилась она в меня. Да и живой же я!
Федор замолчал, вытянул из пачки очередную сигарету, опять закурил. Посмотрел на меня:
— А ты — замужем… Короче, забеременела она. Сказала мне. — Федор снова затянулся сигаретой. — Я тогда тебе письмо написал, осенью, помнишь? Думал, если ты ответишь «да», признаюсь Наталье, скажу, что ее не люблю, чтобы сделала аборт… Поеду, тебя заберу, куда-нибудь переведусь. Но ты не ответила. — Федор курил и курил. Таким и запомнилось мне его лицо в ту ночь — подсвеченное горячим огоньком сигареты. — Я все тянул… тянул… Ждал от тебя ответа. А там — уже шесть месяцев почти… Только за неделю до твоего письма и женился.
И, словно угадывая наперед мои мысли, то прижимая, то отстраняя меня от себя, чтобы заглянуть мне в глаза, говорил:
— Никуда я тебя не отпущу. Отведу к Лене, попрошу, чтобы сторожила, пока не вернусь с работы. Не уезжай. Слышишь, не уезжай, Наташка.
Я уехала. Рано утром. В Москве, на Белорусском вокзале, сдала обратный билет и купила на ближайший поезд, как и приснилось маме.
* * *Теплым майским днем, когда цвели сады и нежной листвой зеленели деревья, Федор, будучи в отпуске, приехал в Минск и пришел ко мне на работу, в лесоустроительное предприятие. И пока я, волнуясь и не совсем отдавая отчет своим действиям, оформляла неделю за свой счет, ждал меня неподалеку в сквере.
На следующий день мы были на Витебщине, где знакомые помогли снять в деревне маленький заброшенный домик, в котором уже год, после того как умерла хозяйка, никто не жил. Сделав уборку, мы провели в нем несколько дней..
Еду готовили в печи. И я, по какой-то злой иронии судьбы, наяву могла наслаждаться картинками из своей несбывшейся мечты, с тоскливой завистью наблюдая, как умело он укладывал дрова, растапливал печь и ловко ставил в нее в чугунки. Я видела его таким, каким когда-то мечтала видеть, и понимала, что все это мне не принадлежит.
В мае, незадолго до того как он приехал в Минск, у него родилась дочь Яна. Когда, узнав об этом, я спрашивала, как он мог оставить жену с маленьким ребенком и вот так отправиться в отпуск, Федор тут же, не отвечая, нервничал, хмурился и начинал курить.
Перед отъездом он сказал:
— Хочу навестить батьку, сходить на кладбище — к могиле мамы. Поедем вместе.
Наша станция Иолча по маршруту «Чернигов-Янов» после аварии в Чернобыле уже больше года была последней. Дальше — мертвая зона. Только специальные поезда продолжали следовать в прежнем направлении, доставляя на Чернобыльскую атомную и обратно работавших там людей.
Я и Федор шли от станции в Иолчу. У него в одной руке — две небольшие наши с ним сумки, в другой — моя ладонь. Мы чуть приотстали, пропустив вперед приехавших с нами одним поездом людей, которые, разбившись на группки, шли в направлении поселка. По полю от станции вилась широкая, утоптанная и разъезженная в две колеи, дорога. Вдалеке виднелись выстроенные в ряд знакомые, все такие же, какими я их видела в детстве, высокие осокори. Мимо меня и Федора в сторону станции проехал велосипедист. Кто-то обогнал нас на мотоцикле.
Я нервничала.
Осталось позади поле. Мы вышли на широкий, подбитый с двух сторон зарослями молодой, но уже набиравшей силу полыни, в белесой россыпи песков шлях. Я заметила, что навстречу нам бежал человек. Не быстро бежал, тяжело, чуть спотыкаясь. Я почувствовала в руке Федора напряжение:
— Батька…
Запыхавшись и прерывисто дыша, отец Федора остановился перед нами.
— Мне сказали, что Федька мой от станции идет… С женой приехал. Вот и побежал встречать.
Невысокий, худой, расправляя на груди взмокшую от пота рубашку, расстегнутый ворот которой открывал коричневую, в морщинах, шею, он смотрел на нас удивленными, выцвевшими глазами, в растерянности переводя взгляд с сына на меня.
— Ну, здравствуй, отец. Вот и встретил. К тебе идем, — спокойно сказал ему Федор.
— Бачу, бачу. И что не жену за руку ведешь, тоже бачу.
Два дня мы провели у отца Федора. Когда темнело, прячась от людей, бродили по окрестностям, но больше, по моей просьбе — по Прудовице. Близко и, казалось, так недосягаемо далеко была родная хата, где светилось окно, и никто за этим окном не знал, с какой тоской смотрела на него и не смела зайти на огонек внучка.
— Пока нет ребенку двух лет, военному развод не дают, — говорил Федор, когда мы, как и в прошлый раз, в Чернигове, на перроне, в ожидании каждый своего поезда, прощались. — Через два года я разведусь и женюсь на тебе. А до этого все равно можно жить вместе.
Я слушала Федора, а сама была уверена: не переступить нам через его ребенка — его маленькую Яну. Никогда не простит он себе этого. И мне тоже. Тем более что детей он любит, очень любит! Вспомнив, какая нежность разливалась по его лицу, когда притопывала у него на коленях и радостно улыбалась ему маленькая племянница, ответила:
— У тебя есть Яна, Федя. Ты не сможешь спокойно жить, если бросишь дочь. — И, не зная, смогу ли я сама в будущем иметь детей, добавила: — А меня — возненавидишь.
* * *Человеку, как бы ему тяжело ни было, когда он принимает решение, становится легче. И если он решается закрыть одну дверь, перед ним открывается другая.
Вернувшись в Минск и определившись в своих будущих поступках, я почувствовала, что, наконец, разжали свои когтистые объятия, отпустив на свободу мою душу, сомнения и тревоги.