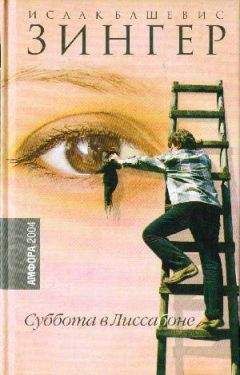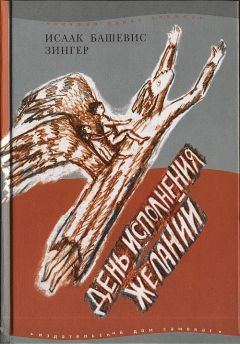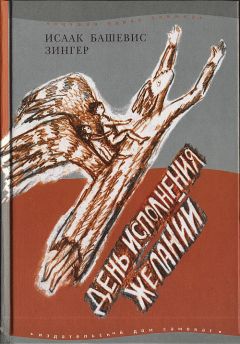Исаак Башевис Зингер - Рассказы
— В романах герой всегда женится на спасенной им девушке, — заметил я.
Она вся напряглась, но не ответила, и вдруг сникла, сморщилась, будто старость сразу внезапно рухнула на нее. Я не ожидал услышать еще хоть слово об этой истории, когда она проговорила:
— Вместе с этой рукописью я сожгла свою способность любить.
БРАТЕЦ ЖУК
Я мечтал об этом путешествии с пяти лет. В ту пору наш учитель Моше Альтер прочел мне тот отрывок из Торы, где Иаков с посохом переходит Иордан.[10] Но когда в возрасте пятидесяти лет я приехал в Израиль, мне хватило недели, чтобы перестать изумляться. Я побывал в Иерусалиме, посетил Кнессет,[11] взошел на Сион,[12] осмотрел галилейские киббуцы,[13] постоял над руинами древнего Цфата, побродил в уцелевших развалинах аккской крепости, даже отважился на опасное по тому времени путешествие из Беер-Шевы в Сдом, где по пути видел, как арабы пашут на верблюдах. Израиль оказался даже меньше, чем я себе представлял. Машина, в которой я путешествовал, не могла вырваться из какого-то заколдованного круга: все три дня нашей поездки, куда бы ни ехали, мы, казалось, играли в прятки с озером Киннерет. Днем машина ни на мгновение не остывала. Чтобы спастись от слепящего света, я нацепил две пары солнечных очков, одни поверх других. По ночам откуда-то налетал знойный ветер. В тель-авивской гостинице меня научили манипулировать створками жалюзи, но стоило выйти на балкон, как нанесенный хамсином[14] мельчайший песок густо запорашивал простыни. Вместе с ветром налетали мухи и бабочки самой невероятной величины и расцветки, а с ними жуки — такие громадные, каких я в жизни не видывал. Как они жужжали и гудели! Мотыльки с неимоверной силой бились о стены, будто готовились к генеральному сражению насекомых против человека. Тепловатое дыхание моря отдавало гнилой рыбой и прочей зловонной дрянью. На исходе того лета в Тель-Авиве часто, случались перебои с электричеством. Город внезапно покрывала абсолютно местечковая тьма. Небо заполнялось звездами. Багровые подтеки заката создавали ощущение гигантской небесной скотобойни.
На балконе дома напротив гостиницы старик с маленькой седой бородкой, в шелковой кипе, сползшей на высокий лоб, полулежа на кровати, читал через лупу какую-то книгу. Молодая женщина приносила ему питье. Он делал на полях книги пометки. Внизу на улице смеялись, визжали и дразнили мальчишек девчонки — все точно так же, как в Бруклине или в Мадриде, где я останавливался по пути. Дети перекликались на каком-то странном сленге, в котором не было ничего от языка Книги. Спустя неделю, побывав везде, где должен побывать приехавший на Святую Землю турист, я принял свою порцию благодати и отправился на поиски каких-нибудь менее благочестивых приключений.
В Тель-Авиве у меня было множество друзей и знакомых, еще с варшавских времен, в их числе — даже давняя любовница. Большинство моих близких погибло в гитлеровских концлагерях либо умерло от голода и тифа в советской Средней Азии, но кое-кто все же спасся. Я натыкался на них в уличных кафе, где они, потягивая через соломинку лимонад, продолжали обсуждать все те же вечные проблемы. Что значат, в конце концов, какие-то семнадцать лет?! Да, мужчины слегка поседели. Да, женщины покрасили волосы и упрятали морщины под толстый слой краски. Но жаркий климат не иссушил страсти. Вдовы и вдовцы переженились. Те, кто недавно развелись, подыскивали новых спутников жизни или любовников. Все по-прежнему писали книжки, рисовали картины, старались заполучить роли в пьесах, сотрудничали во всевозможных газетах и журналах. Все умудрились хоть немножко выучить иврит. За годы скитаний многие овладели русским, немецким, английским, даже венгерским и узбекским.
Стоило им меня увидеть, как немедленно за столиком расчищалось место и начинались воспоминания, в которых я тоже должен был участвовать. Они спрашивали моих советов относительно американских виз, литературных агентов, импрессарио. Мы даже шутили по адресу общих друзей, уже давно обратившихся в прах. Время от времени какая-нибудь дама осушала платочком слезу в уголке глаза, стараясь не смазать тушь.
Я не искал Дошу, но был уверен, что мы увидимся. Да и как я мог избежать здесь встречи с ней? Случилось так, что в тот вечер я сидел в кафе, где собирались не художники, а коммерсанты. За соседними столиками говорили о делах. Торговцы бриллиантами вытаскивали маленькие баульчики с камнями и увеличительными стеклами. Камень быстро переходил от столика к столику. Его проверяли, ощупывали, после чего передавали соседу, кивая при этом головой. Мне казалось, что я очутился в Варшаве, на Кролевской улице.
Внезапно я увидел ее. Она озиралась по сторонам, явно ища кого-то. Я сразу заметил все: и крашеные волосы, и мешки под глазами, и подрумяненные щеки. Одно только осталось неизменным — стройная фигура. Мы обнялись и обменялись древней как мир ложью: "А ты точно как прежде!" Но едва она села за мой столик — некая скрытая рука смела с ее лица пережитое, и вновь возникла женщина, чей образ я хранил в памяти все эти годы.
Я сидел и слушал ее путаный рассказ. В нем смешалось все: страны, города, замужества и годы. Один муж пропал. С другим она развелась; он теперь жил где-то с другой женщиной. Третий муж, с которым она в общем тоже рассталась, жил в Париже, но вскоре собирался в Израиль; они познакомились в лагере в Ташкенте. Да, она все еще рисует. А что остается делать? Изменила манеру, с импрессионизмом покончено. Старомодный реализм? А куда он сегодня может привести? Художник должен создавать нечто новое и абсолютно свое. А если этого нет, то и искусство не состоялось. Я напомнил о временах, когда она считала Пикассо и Шагала жуликами. Да, было такое, но потом она сама зашла в тупик. Сейчас ее работы действительно самостоятельны и подлинно оригинальны. Впрочем, кому здесь нужна живопись? В Цфате возникла колония художников, но ей не удалось приспособиться к их жизни. Хватит с нее мыканий по всяким забытым Богом российским деревушкам. Ей необходима атмосфера города.
— Где твоя дочь?
— Карола в Лондоне…
— Замужем?
— Да, я уже «савта», бабушка.
Она робко улыбнулась, будто хотела сказать: "Что толку притворяться? Тебя мне все равно не провести!" Мне бросились в глаза ее новенькие, только что от протезиста зубы. Подошел официант, она заказала кофе. Мы немного посидели молча. Время раздавило нас, лишило родителей, родни, разрушило отчие дома. Оно посмеялось над нашими фантазиями, мечтами о величии, богатстве, славе.
Еще в Нью-Йорке до меня долетали новости о Доше. Кое-кто из общих друзей писал, что ее картины не выставляются, а имя не попадается в газетах. Депрессия приводила ее время от времени в психиатрическую лечебницу.
Тель-авивские женщины редко носят шляпы и уж почти никогда — вечером, но на Доше была сдвинутая на один глаз широкополая соломенная шляпа с лиловой тесьмой. Хотя волосы ее были выкрашены в каштановый цвет, в них местами пробивались следы былых оттенков. Там и сям проскальзывала даже голубизна. И все же лицо ее сохраняло девичью угловатость. Тоненький носик, острый подбородок. Глаза — то зеленые, то желтые — не утратили молодой неизбывной силы, в них светилась готовность к борьбе, к стойкой, надежде до последней минуты. А иначе как бы она выжила?
— По крайней мере, есть у тебя кто-то? — спросил я.
Глаза ее засмеялись.
— Начинаешь все сначала? Уже с первой минуты?
— А чего ждать?
— Ты неисправим.
Отхлебнув кофе, она сказала:
— Конечно, у меня есть мужчина. Ты же знаешь, что я не могу жить одна. Но он сумасшедший, я это говорю не в переносном смысле. Он так безумно любит меня, что не дает мне житья. Преследует на улице, посреди ночи ломится в дверь, заставляет краснеть перед соседями. Я как-то даже вызвала полицию, но избавиться от него не смогла. Слава Богу, он сейчас в Эйлате. Я на полном серьезе подумываю взять пистолет и пристрелить его.
— Кто он? Чем занимается?
— Говорит, что инженер, но на самом деле электромонтер. Он интеллигентный человек, но психически болен. Иногда я думаю, что мне не остается ничего другого, как наложить на себя руки.
— Но он устраивает тебя?
— И да, и нет. Я ненавижу дикарей. И я устала от него. Он мне надоел. Распугал всех моих друзей. Убеждена, что как-нибудь он просто меня убьет. Это мне ясно, как Божий день. Но что делать? Тель-авивская полиция ничем не отличается от любой другой полиции на свете. Они говорят: "Вот когда он вас убьет, мы его посадим". Сперва он должен себя скомпрометировать. Если б я могла куда-нибудь уехать, я бы ни минуты здесь не задержалась, но иностранные консульства выдают визы неохотно. Тут у меня, по крайней мере, квартира. Хотя квартира — громко сказано! Так, крыша над головой. А что делать с картинами? Они только пылятся. А если даже и решусь уехать — на что жить? Алименты от бывшего мужа, доктора — всего несколько фунтов, да и те он высылает с опозданием. Они там не имеют понятия о нашей жизни. Здесь не Америка. Я голодаю, честное слово. Не хватайся за бумажник, все не так страшно. Жила все время одна и подохну одна. Я даже горжусь, что такая у меня судьба. Каково мне пришлось и через что я прошла — об этом никто не знает, даже Господь. Ни дня без какой-нибудь катастрофы! И вдруг — захожу в кафе, а тут — ты. Вот это действительно удача.
![Исаак Башевис-Зингер - Короткая пятница и другие рассказы[Сборник]](/uploads/posts/books/138725/138725.jpg)