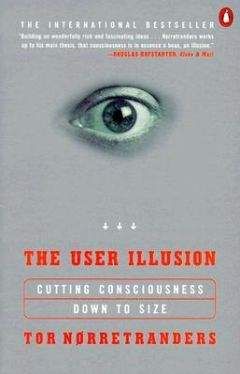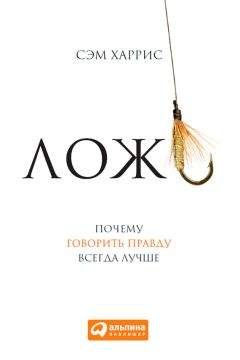Эфраим Баух - Оклик
Мир сновидений имеет свою меблировку. Вернувшись после столь долгой войны, поглотившей десятки миллионов жизней, мы находим на том же месте старый, изъеденный древоточцами буфет: более полустолетия, с момента, когда дедушка и бабушка въехали в этот дом, стоит он, не сдвигаясь, украшенный искусной резьбой по дереву – рельефами, в которых сплетаются библейским мотивом, украшавшим Иерусалимский храм, виноградные лозы, гроздья, львы, вставшие на дыбы, и два цельновырезанных льва, раскрыв пасти и выставив лапы, поддерживают на головах верхнюю часть буфета; он виден из любой точки квартиры, вся остальная мебель возникает, шебуршится вокруг него, исчезает, меняются столы, столики, стулья, а он стоит, дряхл и монументален, и львы придают ему черты сфинкса, и по сей день, через столько лет после того, как умерла мама, умерла бабушка, продали дом вместе с буфетом, а затем вообще снесли с лица земли, он постоянно мерцает в глубине моих снов как неизменная точка отсчета дней моей жизни на этой земле.
В моем мире сновидений отчетливо выделяются две топографии – большая и малая. Большая, широко и просторно заверчиваясь, разворачивается через окно на восток, окно маминой спальни. Малая, остро и стремительно отпрянув через окно на запад, окно из папиного кабинета, уходит, заворачиваясь узким потоком в трубе переулка, между домами, возвышающимися напротив нашего – домом Кучеренко слева и домом Карвасовских справа.
Спрятавшись под окном на восток, в маминой спальне, я медленно поднимаю голову над подоконником: появляются верхушки акаций, затем – крыши домов, они покачиваются, как поплавки на воде; затем я влезаю на подоконник, ложусь на живот и так, тоже покачиваясь как бы в дремоте, часами слежу за пространством, и оно катится вниз от нашего дома широким полем, изрытым старыми, полуразвалившимися, заросшими бурьяном и травой окопами, ударяется о полуобгоревшие стены так и не восстановленной мельницы Кордонского, продолжает катиться под откос, пока не проваливается крутым берегом в Днестр, и уже подхваченное его быстрым и сильным течением, уходит за дома и сараи; левый же, низкий берег, каждый год так широко и тревожно заливаемый весенним паводком, что целые острова фруктовых садов, тянущихся до самого горизонта, стоят по пояс в воде, притягивает взгляд неожиданно плавным, медленно и мощно разворачивающимся пространством, теряющимся в дымной дали; и неожиданным ключом, замыкающим все это сомнамбулическое круговращение ближних и дальних земель вместе с водами Днестра, горизонт прорезает колокольня Кицканского монастыря, и подобна она скрипичному ключу, дающему тональность этому музыкально-выстраивающемуся пространству, первую тональность, в которой я, еще и не осознавая этого, принимаю как нечаянный дар звучание огромного и прекрасного оркестра жизни.
Колокольня придает особую притягательность левому берегу, откуда в летние ночные часы вместе с запахом цветов неожиданным дуновением приносит обрывок песни, распеваемой лихими женскими голосами: "И кто его знает, чего он моргает"… Эту песню я слышу, прокрадываясь иногда в кабинет к отцу, когда он, погасив свет и приглушив звук, слушает радио, и предметы вокруг, такие знакомые, становятся загадочными и враждебными в слабом свечении, изливаемом зеленым глазком приемника "Колумбия". "Говорит Москва, – подмигивает глазок, – радиостанция имени Коминтерна".
В доме с бабушкой говорят на идиш, а друг с другом по-русски, хотя в городе уже более восемнадцати лет румынская власть. Однажды отец приводит меня на вокзал, куда раз в неделю, после восстановления моста, прибывает поезд из России: поражает меня будка машиниста, которая в течение всей стоянки не открывается, и у двери будки, на лестнице, не отрывая ладони от каски с красной звездой, стоит солдат…
Как ни странно, только в шестидесятые годы, работая геологом, впервые оказываюсь в селе Кицканы. С трепетом, отвязавшись от попутчиков, приближаюсь через гниющие от избытка плодов яблоневые сады к монастырю. Более всего потрясает то, что монастырь стоит вовсе не на левом берегу, а на правом, просто Днестр резким изгибом поворачивает русло на восток, но из окна маминой спальни колокольня видна была в самой сердцевине левобережья. Монастырь заброшен, комнаты монахов загажены, оконные фрамуги выломаны, вход на колокольню забит. Сельское начальство доверительно мне сообщает: были случаи, пытались сброситься, потому и забили вход. Остро пахнет яблочной гнилью, пьянит соком, который начинает бродить в паданцах, кружит голову высота, влечет ощущением полета и гибели.
Замыкается еще один из кругов моей жизни.
Но и по сей день нередко началом сна, который стремительно разворачивается подобно полифоническому полотну музыки, возникает все та же дальняя колокольня, прокалывающая младенческое небо и несущая всю загадочность и полноту первых лет моей жизни…
А пока я покачиваюсь в дремоте, лежа на подоконнике, вглядываясь в даль, как сомнамбула, и никакие хлопки на реке, подобные выстрелам из моего пробкового пистолета, ни беготня румынских пограничников с ружьями наперевес мимо нашего дома, ни тревожно-любопытные лица соседей, высыпавших из соседних домов на улицу, не могут вывести меня из полусонного состояния, хотя где-то, за пределами дремоты, я отчетливо слышу голоса, тут же накатывающие снежный ком слухов: собака, говорят, плыла с того берега, на ней вроде бы кожаная сумка, стреляли по ней румыны, только у самого нашего берега убили, унесло ее течением, вот горе-вояки, им бы сумку-то перехватить, ну вот, как всегда, облава в прибережных улицах. К нам не заходят: на дверях табличка: "Адвокат…".
На границе все время что-то происходит. Во мне же эти события совершаются как бы в глубинах длящегося сомнамбулического сна. Даже более серьезные потрясения не вызывает особой реакции, кроме какого-то сонного любопытства. Помню день смерти деда Шлоймс, отца моего отца, сильный мороз, дом, полный зажженных свечей, духоты, белых полотен, множества бесшумно перемещающихся людей. Меня укутывают в одежки, выходим из дома деда, лихой извозчик везет нас на санях так, что полозья заносит вбок, и они до рези в ушах визжат в ледяном воздухе. Угорев от свечей, выйдя на мороз, а затем вернувшись в теплынь нашего дома, от резких перепадов температуры я падаю в первый мой обморок. Прийдя в себя, лежу в каком-то сладостном умиротворении, плаваю в небесной легкости и нежной слабости, над которыми в панике мечутся тени мамы, бабушки, отца.
Это, несомненно, первое сильное и чудное переживание сродни второму, не менее сильному, когда я, четырехлетний, стою у подножья лестницы, ведущей на чердак, по ней поднимается с ворохом стирки моя нянечка Сюня, и я вдруг вижу ее длинные стройные ноги из-под взлетевшего на ветру платья, и она смотрит вниз, на меня, краснеет, зажимает платье коленями, кричит: "Отойди от лестницы, бесстыдник…"
Но два этих события ощущаются скорее не пробуждением от длящегося сна, а еще большим погружением в его сладостные глубины.
Брат Сюни Митрофан (о нем шепчут, что он ходит на левый берег, но румыны его никак не могут поймать на месте преступления) очередной персонаж, который однажды отвлекает меня от созерцания широких пространств в восточном окне и приковывает к окну на запад: румынские пограничники заставляют его проделывать упражнения в узком, как труба, переулке, выходящем прямо на это окно, – лечь, кричат ему, встать, лечь, встать. Они наказывают его за неимением улик, объясняет мне мама.
В мире сновидений малая топография, пружиной разворачивающаяся на запад кривым переулком, особенно мне близка, ибо не сосчитать, сколько раз я прощупал это пространство собственными ногами. Я все еще как бы сплю, когда папа, лейтенант артиллерии, уходит на военные сборы в румынскую армию, и я провожаю его до середины переулка, он обнимает и целует меня на прощание, а потом, через некоторое время, прискакивает верхом на коне, в длинной до пят шинели, с шашкой в ножнах, и все соседи вытягивают в окна свои неожиданно удлинившиеся шеи; затем он снова, в военной форме, появляется в доме, берет меня с собой, и мы едем в экипаже, кони звонко стучат копытами по каменной кладке мостовой, скачем в магазин игрушек, отец покупает мне огромный пистолет, гараж с маленькими автомашинами и башней; дутые шины экипажа ловко приминают землю в переулке, в небе серп луны, мы возвращаемся, и вместо стука я стреляю пробкой в парадную дверь.
Я все еще сплю, когда зимой отец заболевает сыпным тифом, консилиум врачей собирается в его кабинете, мама все повторяет имена – доктор Юнт, доктор Трейгер, отец лежит в спальне и бредит, приезжает карета скорой помощи, отца одевают, как ребенка, качающегося выводят под руки, сажают в карету. Дней через десять он возвращается из больницы, худой, бледный, стриженный, виновато улыбающийся.
Переулок – пуповина, соединяющая меня с широким миром: по нему я ухожу к вокзалу, собираясь в Москву или Крым, по нему возвращаюсь из Сибири. И по сей день в мире снов он возникает, сумеречный и безлюдный, лунатически освещаемый фонарем, висящим на столбе у дома Карвасовских. В неверном свете полдневного солнца я вижу сквозь решетчатый забор во дворе Кучеренко пожухшие стволы кукурузы и подсолнуха, поднимаюсь по переулку, утопая в пыли или увязая в грязи после дождя, вот я уже наверху холма, справа дом Барака, молчаливого господина, зимой и летом застегнутого на все пуговицы, в шляпе, с зонтиком, страдающего падучей (однажды я видел, как он упал в переулке, его накрыли черной материей, потом он встал сам, пошел к себе), напротив – дом, в котором живет шумное расхристанное племя цыган, все курчавые, пестрые, крикливые; начинается спуск – к дому Селитриника, напротив которого живут глухой Янкель с Мындл и семья Радошевецких, а за ними уже видна пустошь с заброшенным колодцем, куда однажды упал Бенюмчик, блаженненький с нашей улицы, двое суток пролежал, пока случайно кто-то из проходящих не услышал стоны…