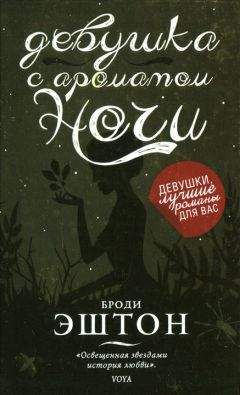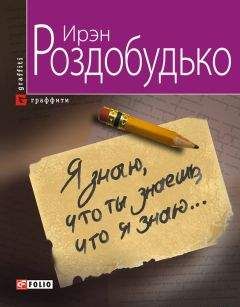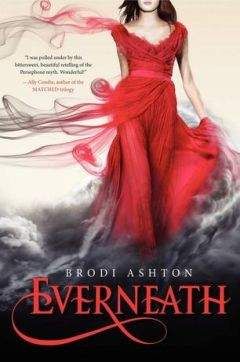Бруно Шульц - Коричные лавки. Санатория под клепсидрой
Таково было начало преинтересных и преудивительных историй, которые отец мой, вдохновленный очарованием маленькой этой и невинной аудитории, устроил в последующие недели ранней той зимы.
Любопытно будет отметить, что в столкновении со столь необычным человеком все вещи словно бы возвращались вспять, к корням своего бытия, восстанавливали свой феномен вплоть до метафизического ядра, пятились как бы к изначальной идее, чтобы там от нее отступиться и переметнуться в сомнительные, рискованные и двусмысленные пределы, которые для краткости назовем регионами великой ереси. Наш ересиарх шествовал среди вещей, как магнетизер, заражая их и обольщая своим небезопасным чарованием. Следует ли мне и Паулину счесть его жертвой? В те дни она сделалась ему ученицей, адепткой его теорий, моделью экспериментов.
Избегая искушения и с надлежащей осторожностью я попытаюсь изложить чересчур еретическую доктрину эту, на долгие месяцы обуявшую тогда моего отца и определившую поступки его.
ТРАКТАТ О МАНЕКЕНАХ, ИЛИ ВТОРАЯ КНИГА РОДА
— У демиурга, — говорил отец, — не было монополии на творение. Оно привилегия всех духов. Материи дана нескончаемая жизненная сила и прельстительная власть искушения, соблазняющая на формотворчество. В глубинах ее образуются неотчетливые улыбки, створаживаются напряжения, сгущаются попытки образов. Материя дышит бесконечными возможностями, которые пронизывают ее неясными содроганиями. Ожидая животворного дуновения духа, она бесконечно переливается сама в себе, искушает тысячами округлостей и мягкостей, каковые вымерещивает из себя в слепоглазых грезах.
Лишенная собственной инициативы, сладострастно податливая, по-женски пластичная, доступная всякого рода побуждениям, она являет собой сферу, свободную от закона, предрасположенную ко всяческому шарлатанству и дилетантизму, поле для всевозможных злоупотреблений и сомнительных демиургических манипуляций. Материя — пассивнейшее и беззащитнейшее существо в космосе. Всякому позволительно ее мять, формовать, всякому она послушна. Любые структуры ее нестойки, хрупки и легко доступны регрессу и распадению. Нет ничего худого в редукции жизни к формам иным и новым. Убийство не есть грех. Оно иногда оказывается неизбежным насилием над строптивыми и окостенелыми формами бытия, которые теряют привлекательность. Ради занимательного и солидного эксперимента убийство даже можно счесть заслугою. И тут — исходная посылка новой апологии садизма.
Мой отец был неустанен в глорификации столь удивительного первоэлемента, как материя. — Нет материи мертвой, — учил он, — мертвость — нечто внешнее, скрывающее неведомые формы жизни. Диапазон этих форм бесконечен, а оттенки и нюансы неисчерпаемы. Демиург располагал важными и любопытными творческими рецептами. С их помощью он создал множество самовозобновляющихся видов. Мы не знаем, будут ли эти рецепты когда-то воссозданы. Но оно и не нужно, ибо, окажись даже классические приемы творения навсегда недостижимы, остаются некие иллегальные действия, вся несчислимость методов еретических и безнравственных.
По мере того как отец от общих этих принципов космогонии переходил к области своих прямых интересов, голос его снижался до проникновенного шепота, изложение делалось темней и сложней, а выводы терялись во все более сомнительных и рискованных сферах. Жестикуляция обретала при этом эзотерическую торжественность. Отец щурил глаз, прикладывал два пальца ко лбу, хитрость взгляда его делалась просто невероятна. Хитростью этой он ввинчивался в своих собеседниц, насилуя циническим взглядом наистыдливейшие, интимнейшие их скрытности, настигал ускользающее в глубочайшем закуточке, припирал к стенке, щекотал, карябал ироническим пальцем, пока не дощекочется до вспышки постижения и смеха, смеха признания и взаимопонимания, которым в конце концов приходилось капитулировать.
Девушки сидели замерев, лампа коптила, сукно под иглой машинки давно съехало, и машинка стучала впустую, строча черное беззвездное сукно, отматывающееся от штуки заоконной зимней ночи.
— Слишком долго терроризировало нас недостижимое совершенство демиурга, — говорил мой отец, — слишком долго совершенность его творения парализовала наше собственное творчество. Мы не намерены конкурировать. У нас нет амбиций сравняться с ним. Мы желаем быть творцами в собственной — заштатной сфере, взыскуем творчества для себя, взыскуем творческого восторга, одним словом, жаждем демиургии.
Не знаю, от чьего имени провозглашал отец свои постулаты, какая группировка, какая корпорация, секта или орден придавали своей солидарностью пафос его словам. Что касается нас — мы были далеки от любых демиургических покусительств.
Меж тем отец изложил программу теневой этой демиургии — образ второго поколения творений, — каковая была призвана стать открытой оппозицией господствующей эпохе. — Нас не интересуют, — говорил он, — создания с долгим дыханием, существа долгосрочные. Наши креатуры не станут героями многотомных романов. Роли их будут коротки, лапидарны; характеры — без расчета на будущность. Порой, ради единственного жеста, ради единственного слова, мы не пожалеем усилий, дабы вызвать их на короткое мгновение к жизни. Признаемся же, что не станем делать упор на долговечность и добротность исполнения, наши создания будут как бы временны, как бы разового пользования. Если ими будут люди, мы наделим их, к примеру, лишь одной стороной лица, одной рукой, одной ногой, тою, разумеется, какая необходима для предназначенной роли. Будет педантизмом озаботиться другою, не входящей в замысел, ногой. С тыльной стороны можно просто зашить полотном или побелить. Амбиции же наши сформулируем в следующем гордом девизе: всякому жесту — свой актер. Для обслуживания каждого слова, каждого поступка мы вызовем к жизни нового человека. Такое нас устраивает, и таким он будет, мир по нашему вкусу. Демиург возлюбил изощренные, безупречные и сложные материалы — мы отдаем предпочтение дешевке. Нас попросту увлекает и восхищает базарность, убожество, расхожесть материала. Постигаете ли вы, — вопрошал мой отец, — глубокий смысл сей слабости, сей страсти к папье-маше, пестрой бумажке, лакированию, пакле и опилкам? Это же, — продолжал он с горькой усмешкой, — наша любовь к материи как таковой, к ее пушистости и пористости, к ее единственной мистической консистенции. Демиургос — великий мастер и художник — делает ее неприметной, повелевает исчезнуть под игрой жизни. Мы, напротив, любим ее диссонанс, ее неподатливость, ее чучельную неуклюжесть. Любим в каждом жесте, в каждом движении видеть ее грузное усилие, ее инертность, ее сладостную медвежеватость.
Девушки сидели неподвижно со стеклянными взглядами. Лица их были вытянуты и оглуплены поглощенностью, на щеках выступили красные пятна. Понять, относятся они к первой или второй генерации творения, было сложно.
— Словом, — заключал отец, — мы намерены сотворить человека повторно, по образу и подобию манекена.
Тут для верности изложения следует описать некий мелкий и незначительный инцидент, какой случился в эту минуту лекции и какому мы не придаем ни малейшего значения. Инцидент этот, совершенно непонятный и бессмысленный в конкретном ряду событий, следует, конечно, истолковать как определенного типа рудиментарный автоматизм без предварений и продолжения, как своего рода злорадность объекта, перенесенную в психическую сферу. Советуем читателю проигнорировать его с тою же легкостью, с какой это делаем мы. Вот как все происходило.
Когда отец проговорил слово «манекен», Аделя взглянула на ручные часики, после чего многозначительно переглянулась с Польдой. Потом она несколько выдвинулась вместе со стулом, подтянула по ноге подол, медленно выставила стопу, обтянутую черным шелком и напрягла ее, словно головку змеи.
Совершенно неподвижная, с большими трепещущими очами, углубленными лазурью атропина, она сидела так между Польдой и Паулиной в продолжение всей сцены. Все три глядели огромными глазами на отца. А он кашлянул, замолк, согнулся и сделался багровый. В одно мгновение графика его лица, только что сумбурная и вибрирующая, замкнулась в присмиревших чертах.
Он — ересиарх вдохновенный, мимолетный отпущенник вихря умопомрачений — вдруг съежился внутри себя, сник и свернулся. Возможно даже, его подменили кем-то другим. Этот другой сидел напряженный, красный, опустив глаза. Польда подошла и склонилась к нему. Легонько потрепав его по спине, она заговорила тоном ласковым и заманным: «Иаков будет умницей, Иаков — послушный, Иаков не станет упрямиться. Ну же… Иаков, Иаков…»
Выпружиненный туфелек Адели слегка вздрагивал и поблескивал, как змеиный язычок. Отец мой, не поднимая глаз, медленно встал, машинально сделал шаг вперед, и опустился на колени. В тишине шипела лампа, в дебрях обоев бегали туда-сюда красноречивые переглядывания, летели шепоты ядовитых языков, росчерки мыслей…