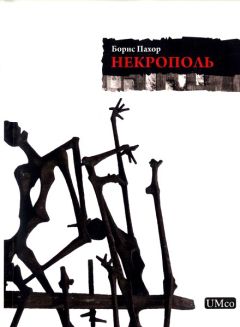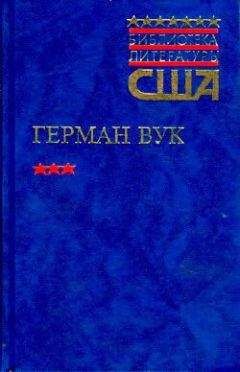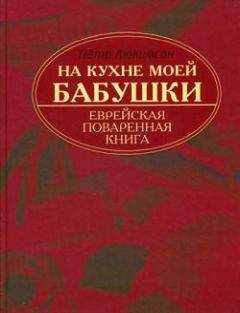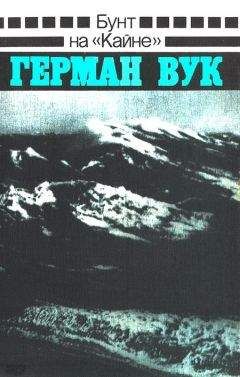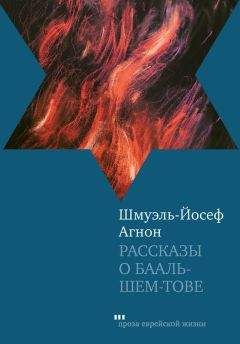Герман Вук - Внутри, вовне
Дядя Хайман набросал свои автобиографические заметки уже в старости, незадолго до смерти. Я давно уже говорил дяде, что хорошо было бы ему написать мемуары, и только недавно я обнаружил, что он таки начал их писать. На его похоронах, это было лет пять тому назад, ни тетя Соня, ни мой кузен Гарольд ничего мне об этом не сказали. Впрочем, им было не до того: тетя Соня была слишком подавлена горем, да и кузен Гарольд тоже был не в лучшей форме. Не от горя, вовсе нет. Гарольд — человек весьма хладнокровный, он — психоаналитик в Скарсдейле, где занимается какими-то важными исследованиями поведения подростков с неустойчивой психикой. Гарольда трудно вывести из равновесия, но ему туго пришлось, когда он перевозил останки дяди Хаймана.
Дело в том, что умер дядя Хайман в Майами, а все наше семейство живет в Нью-Йорке или его окрестностях. Еще лет шестьдесят тому назад тетя Соня и дядя Хайман купили себе погребальные участки в Куинсе, и поэтому кузену Гарольду пришлось полететь из Скарсдейла в Майами, чтобы привезти тело дяди Хаймана в Куинс для похорон. Случилось это в феврале, погода была такая, что хуже некуда. До Флориды Гарольд все-таки добрался, но когда он летел назад, с телом дяди Хаймана в багажном отделении, началась жуткая метель, и самолету пришлось сделать вынужденную посадку в Гринсборо в Северной Каролине. После того как самолет сел, аэропорт закрыли для полетов, его начисто занесло снегом, и там-то дядя Хайман сидел — точнее, лежал — целых два дня. Ему-то было все равно, но совсем не все равно было Гарольду, особенно если учесть, что у него на руках была еще рыдающая восьмидесятилетняя мать, которая ела только кошерную пищу — а не так-то легко достать кошерную пищу в аэропорту города Гринсборо. К тому же Гарольд вел бесконечные телефонные разговоры с родственниками и сотрудниками похоронного бюро, то откладывая похороны, то назначая их снова, то снова откладывая. Вдобавок в это время Гарольд вел наблюдение над несколькими особенно трудными скарсдейлскими подростками, и им необходимо было регулярно беседовать с ним в любое время дня и ночи. Его секретарша дала подросткам номер телефона-автомата в аэропорту Гринсборо, и Гарольд два дня почти безвылазно сидел в телефонной будке, выходя из нее разве только, чтобы справить нужду. Служащие аэропорта приносили ему в телефонную будку кофе, бутерброды, газеты и все что нужно, но только не ночной горшок.
Короче говоря, у него голова шла кругом, и поэтому Гарольд совершенно забыл о записях воспоминаний дяди Хаймана, которые он обнаружил у его смертного одра — в большом конверте из плотной бумаги, адресованном мне. Гарольд сунул этот конверт в сундук, куда он в беспорядке побросал также множество других вещей, оставшихся от дяди Хаймана, — в том числе несколько книг на идише, которые Гарольд не мог прочесть, а если бы и мог, то не захотел бы, коллекцию старых пластинок на 78 оборотов с записями кантора Йоселе Розенблата, фотоальбом со снимками дяди Хаймана в военном мундире во время первой мировой войны и кучу старых программок Ист-Сайдского театра на идише, которые, как Гарольд сообразил много позже, могут быть ценными реликвиями американской истории. Сейчас он пытается их продать. Поэтому он и заглянул недавно в старый сундук и, роясь там, среди всякого хлама наткнулся на адресованный мне конверт. Гарольд прислал мне этот конверт по почте, и я обнаружил в нем обрывки воспоминаний дяди Хаймана, записанные дикими каракулями на самых невероятных бумажках: на оборотках старых счетов и циркуляров, на бланках незаполненных анкет и на каких-то случайно попавшихся ему под руку листках разных размеров.
Я этот конверт куда-то сунул и забыл о нем, и если бы в один воскресный день не пошел сильный дождь, то, может быть, конверт навеки затерялся бы или валялся бы где-то еще лет пять, а то и до самой моей смерти. Однако поскольку пошел дождь, я начал наводить порядок в ящиках своего письменного стола и обнаружил там записи дяди Хаймана — и прочел их. Я готов был заняться чем угодно, только бы не убирать стол. И вот тогда-то у меня зародилась мысль снова попытаться взяться за перо и написать эту книгу, когда я прочел историю дяди Хаймана о том, как папа катался на глыбе льда. Почему? Попытаюсь объяснить. Во мне возникло давнее полузабытое осознание — возникло очень остро, — осознание того, как я любил своего отца, как сильно повлиял он на меня в поворотные моменты моей жизни и как все-таки, несмотря на все это, я мало о нем знаю. Мама до сих пор жива, и сейчас она вызывает у меня в основном юмористическое настроение, хотя очень удачно получилось, что я теперь живу в Джорджтауне, в трехстах милях от Нью-Йорка. Недавно я сказал ей по телефону, что я начал писать книгу.
— Хорошо, — ответила она. — Напиши и обо мне.
Как же, как же!
Но дядя Хайман пишет — и он прав, — что я никогда толком не знал, что за человек мой отец. Наверно, для того, чтобы его понять, я и начал писать эту книгу. Чтобы найти ключ к пониманию, необходимо крепко порыться в памяти, и потому-то я и изливаю вразброд свои воспоминания на эти страницы. Точно так же, как человек вываливает все из карманов, если он никак не может найти ключ от дома.
Итак, вперед — вниз с холма: в исчезнувшем Минске детских лет моего отца, в еврейском мире Восточной Европы, уничтоженном как Карфаген; вперед — вниз с холма, на глыбе льда, — вперед, так, что ветер свистит в ушах, по сверкающему снегу русской зимы, — вперед, мимо солдатских казарм, мимо синагоги, прямо к реке, прямо к широкой черной полынье, вырубленной мужиками во льду.
Дядя Хайман, передаю слово тебе.
Глава 5
Глыба льда
«Я не пытаюсь стать писателем. Нижеследующие заметки — это не автобиография…
Когда я открываю книгу своих воспоминаний, я нахожу там несколько страниц, рассказывающих о событиях, основополагающих в истории нашей семьи. Одно такое событие оставило неизгладимый след. Оно вспоминается мне так ясно, как будто все это произошло вчера. Но произошло это семьдесят лет тому назад…
В кладовых нашего мозга есть неизгладимые происшествия или события, которые дремлют там, пока…»
Таким образом дядя Хайман несколько раз прерывает сам себя и начинает рассказ сначала. Наконец ему удается продолжить свое повествование на оборотной стороне листов, вырванных один за другим из календаря. Как видно, вдохновение снизошло на него в тот момент, когда у него под рукой не было никакой другой бумаги, может быть, это было поздно ночью. Я живо представляю себе, как он сидит в халате за столом на маленькой кухне своей квартирки в Майами и корявым почерком пишет на оборотах листов календаря.
Одно примечание: дядя Хайман пишет для читателя, которому известно, что в шабес — то есть с вечера пятницы до вечера субботы — благочестивые евреи не работают, не зажигают и не гасят огня и не делают никаких других повседневных дел. Это — предпосылка всей истории.
«31 июля 1968 года. Наконец-то я взялся написать то, что мне хотелось написать уже много-много лет. Это моя вторая попытка. Первую я сделал лет пятнадцать тому назад, а то и раньше. Но, написав кое-что, я не стал продолжать и уничтожил написанное. Я подумал: кому это в наши дни интересно? В этом столь быстро меняющемся мире жизненные истории давно умерших людей, их обычаи, их условия существования, их вера, наследие, которое они нам оставили, — все это ушло в небытие, не привлекши большого внимания, потому что это не имеет никакого практического значения в нашем «новом мире», который строится теперь на совершенно новых основах.
Однако в последнее время эти иллюзии существования «нового мира» стали лопаться как мыльные пузыри, и мы снова начинаем всматриваться в прошлое. И я начал надеяться, что когда-нибудь в нашей семье появится кто-то, кто захочет узнать, что за люди были его предки, как они повлияли на следующие поколения и чего они достигли. А потом мой племянник Дэвид сказал, что хорошо бы мне написать мемуары. И вот я сел их писать.
Начну я с первого воспоминания, которое приходит мне в голову. Оно оставило неизгладимый след. Из того, что было до того, я ничего не помню. Мой отец как-то нашел целую сокровищницу семейных документов, но, к нашему общему сожалению, они были уничтожены и с ними исчезла память о людях, давно почивших.
Дело происходит в середине зимы. Суббота. Вечереет. Место действия — дом, в котором я родился и жил до того дня, когда я, семнадцатилетним подростком, уехал в Соединенные Штаты. Мой дом — это часть Солдатской синагоги; это просто отгороженная часть синагогальной прихожей, которую поделили надвое стенкой, чтобы создать жилье для шамеса — моего отца.
К концу сентября в Минске начинает холодать, заряжают противные студеные дожди. Примерно в середине октября дождь превращается в снег Земля промерзает, и снег перестает таять. Проходит несколько дней — и снега наметает столько, что можно менять колесные повозки на сани. Эта смена погоды происходит очень быстро, каждый год почти в одно и то же время. Потому что Минск находится в глубине континента, очень далеко не только от океана, но и от моря. В городе есть только небольшая речка, шириной каких-ни-будь сто футов, но очень глубокая. В эту речку упирается улица, на которой находится наша синагога; улица круто спускается к речке и упирается в набережную и в речной берег.