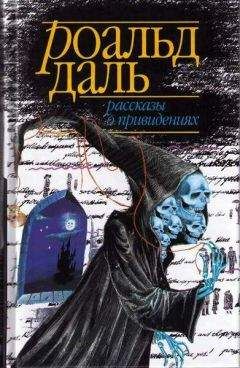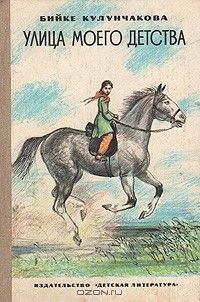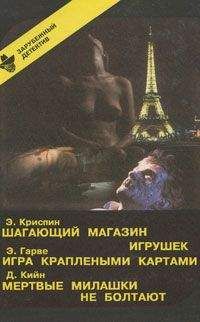Даниил Гранин - Заговор
Горы здесь не похожи на все другие горы планеты. В Финляндии, Карелии они цветные, гранит розовый, серый, сизый, на Кавказе, там горы величественные и человек чувствует свою малость. Здесь у меня возникло другое — ощущение Творца, присутствия Бога, это еще не остывшее «его рук дело».
Эта природа создает чувство самодостаточности. Можно лишь уходить в горы и не тянуть туда провода. Беспроводная жизнь. Хуторская. Она была когда-то вынужденной, сегодня она стала желанной. Роскошь семейного одиночества. Это жизнь вглубь. Японцы часами сидят перед цветущей сакурой, проникаясь чудом цветения. Норвежцы нашли в хуторской жизни свою роскошь, я говорю о современных норвежцах.
* * *Супружеская чета. Она — помощник врача, он — инженер-энергетик. Я спросил, какая у нее разница в окладе по сравнению с министром здравоохранения. Она сказала, в два с лишним раза меньше, муж, тот сказал, что его министр получает в один и три десятых больше. У них в Норвегии, оказывается, разница не может быть больше чем в три раза. То есть, если, допустим, наш министр получает (как это было опубликовано) около миллиона в месяц, то медсестра в больнице должна получать хотя бы триста тысяч рублей. Подобная цифра выглядит в нашей российской жизни невероятной.
Сорок процентов всех членов советов директоров, депутатов разных уровней должны составлять женщины. Квота эта сорокапроцентная обязательна для всех. Пребывание у власти женщин хочется сравнить с Гольфстримом, все теплее, человечнее, умнее, каждый человек ощущает благотельность такого сочетания.
* * *— Да, писать «Блокадную книгу» было безумно тяжело. Я говорю не о том, как тяжело выслушивать все эти блокадные рассказы, сам материал оказался настолько тяжел нравственно, что я от него просто стал больным… В документалистике существуют очень трудные и какие-то неуловимые требования отбора — что можно писать, а чего нельзя. Принимаясь за работу, я полагал: писать можно обо всем. Оказалось — нет! Потому что существуют вещи настолько трагические, настолько невыносимые, что мы с Адамовичем почувствовали: не имеем права взваливать это на читательские души. Возникла необходимость отбора…
Часто мы спрашивали себя: а зачем вообще эта книга? Для чего людям нужно знать об этих страданиях? Ведь больше мы привыкли в литературе к преодолению страданий. Но есть же страдания и непреодолимые, которые страданиями и остаются, когда человек не может забыть о них до конца жизни. Зачем писать об этом?..
Как-то мне позвонили из Новгорода, из библиотеки: «Даниил Александрович, вчера мы провели срочное собрание в связи с вашей книгой…» — «Почему срочное? Что-нибудь случилось?» — «Случилось. Одна женщина проходила по площади, упала, сломала ногу, стала звать на помощь, но никто к ней не подошел. В своей книге вы пишете, как в блокаду голодные, измученные люди помогали друг другу, поднимали упавших, оттаскивая их от края жизни. Почему же теперь, спрашивали мы на собрании, сытые, здоровые люди зачастую проходят мимо чужого горя?..»
Звонок из Новгорода совпал с моими размышлениями. Я думаю: очень важно, чтобы литература тревожила человеческую совесть. Литература вообще делится на два типа: одна убаюкивает совесть, а другая ее тревожит. Если литература стремится к нравственному воспитанию людей, она должна совесть тревожить, должна, как говорил Достоевский, «пробить сердце». И чем благополучнее у человека жизнь, чем она более сытая, тем совершить это труднее.
Я считаю, что страдания ленинградцев в блокаду не должны пропасть, не должны остаться втуне, ведь эти страдания требовали огромной духовной силы, огромной духовной стойкости, требовали решения каких-то мучительных и важнейших нравственных проблем, проблем совести… Один ученый рассказывал: во время войны он работал в Математическом институте Академии наук, где выполнялись военные заказы, и однажды кто-то потерял там хлебную карточку. И мой собеседник сказал: «Все понимали, что он обречен». — «Почему же вы не сложились, не помогли этому человеку?» — «Если бы мы сложились, чтобы помочь, где гарантия, что завтра другой, третий не сказал бы, что тоже потерял карточку? Вот мы и сторонились этого человека…» Прошло уже столько времени, а мой собеседник, вспоминая про это, не мог отделаться от жгучего чувства стыда…
После XX съезда КПСС и разоблачения культа личности Д.Д.Шостакович произнес удивительное: «Теперь можно плакать».
Слезы — это чувство сострадания, может, главное для человеческой души.
Тогда, в блокаду, нелегкие вопросы возникали, может быть, перед каждым, может быть, ежедневно. Например, женщина рассказывала нам, как она мучительно решала для себя вопрос: кого спасать — мужа или ребенка?.. Вот какой нравственный выбор возникал. Или, сам падая от голода, человек протягивал руку помощи другому, чтобы отвести его от края жизни… Оказавшись в той невероятно жестокой ситуации, ленинградцы вели себя именно как ленинградцы — я имею в виду не «географическое» значение этого слова, а его, так сказать, нравственный смысл. Да, за ними стояли и Пушкин, и Блок, и Глинка, и Чайковский, и все это давало людям новые нравственные силы, когда физических сил уже не оставалось. И то удивительное достоинство, с которым люди умирали, тоже содержит в себе понятие «ленинградец»… Мы с Адамовичем считали, что такие истории должны тревожить человеческую совесть. Жить среди душевного благополучия и безразличия литература не может. К тому же эта работа показала нам, насколько жизнь богаче, сильнее и ярче художественной литературы. Понятие «художественная литература» употребляю в том смысле, что если бы я писал о блокаде: никогда не смог бы придумать ничего сильнее, чем вот эти безыскусные рассказы, из которых тоже складывается понятие — подвиг Ленинграда.
— Вы сами воевали на Ленинградском фронте. А бывать в блокадном городе довелось?
— Раза два или три всего. Один раз нес пакет куда-то, проходил село Рыбацкое и видел, как лошадь, которая тащила сани с патронными ящиками, молоденький красноармеец погонял ее, упала на подъеме и встать не смогла. Как он ее ни лупил, ни бил — она дрыгала ногами и подняться не могла. А тут вдруг откуда ни возьмись налетели люди, закутанные во что попало, с топорами, ножами, принялись кромсать лошадь, вырезать куски из нее. Буквально минут через двадцать остались только кости. Все обглодали… Запомнилось и то, какой был город. Занесенный снегом, высокие сугробы, тропинки между ними — это улицы. Только по центральным улицам можно было ехать на машине. Лежали трупы, не так много. Лежали больше в подъездах. Город был засыпан чистым-чистым снегом. Безмолвный, только тикал метроном из больших репродукторов, которые были повсюду.
Витрины все заколочены. Памятник Петру, памятник Екатерине завалены мешками с песком. Никто из нас не стремился в этот блокадный город…
Жизнь блокадная шла среди разбомбленных домов. Угол Моховой и Пестеля. Дом стоял словно бы разрезанный. Бесстыдно раскрылись внутренности квартир, где-то на четвертом этаже стоял платяной шкаф. Дверца болталась, хлопала на ветру. Оттуда выдувались платья, костюмы. Разбомбленные дома дымили. Пожары после бомбежек или снарядов продолжались неделями. Иногда возле них прохожие грелись. Гостиный Двор, черный весь от пожара. В Александровском саду траншеи, зенитки. Траншеи были и на Марсовом поле…
Однажды нам поручили втроем вести пленного немца через город в штаб. Я наблюдал не столько за городом, сколько за немцем, которого вел, — какой ужас был на его лице, когда мы встречали прохожих. Замотанных в какие-то немыслимые платки, шарфы, с черными от копоти лицами. Не поймешь — мужчина, женщина, старый, молодой? Как тени, они брели по городу. Началась тревога, завыли сирены, мы продолжали вести этого немца. Видели безразличие на лицах прохожих, которые смотрели на него. Он-то ужаснулся, а они уже без всяких чувств встречали человека в немецкой шинели…
* * *В одной старой книге я прочел удивительно простую вещь, никогда раньше она не приходила мне в голову.
«…Людей еще не было, а животные уже были, и куда бы люди ни приходили, местность была уже занята, <…> человеку дана Земля, но не ему одному, и не ему в первую очередь».
Нынче, в октябре 2010 года, мы на Крестовском острове собрались посадить молодой дуб. Несколько дней назад какие-то «вандалы», как их все величают, спилили петровский дуб, тот, что стоял тут, огражденный специальной решеткой. Это был наследник дуба, посаженного Петром Великим 300 лет назад. На месте варварской этой акции хулиганы оставили две пилы. Так что уничтожение дуба было умышленное, продуманное. Зачем они это сделали? Чем мог мешать дуб? Историческая достопримечательность города, казалось бы, ничего, кроме трогательного чувства, не могла вызвать.
Ограда вокруг Александровской колонны на Дворцовой площади украшена чугунными орлами. Их постоянно ломают и уносят. Кто эти похитители, куда девают этих орлов?