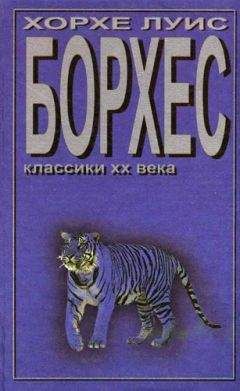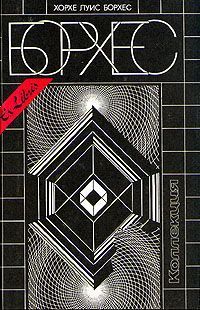Ирина Богатырева - Товарищ Анна (повесть, рассказы)
— Нет еще. — Валька безразлично шмыгнул носом. Сам он сомневался, что у него вообще возникнет в этом надобность.
— Жаль, — по-учительски неодобрительно покачала головой Анна. — Там монументальный читальный зал. Бесконечно огромный потолок. Зеленые лампы, коврики под ногами, тишина, запах книжный, дух учения, дух терпеливого, кропотливого труда. А у дальней стены, на уровне балкона, — памятник Ленину, склоненному над книгой, тоже читает. Сидишь, корпишь, сил уже нет, но поднимаешь глаза — и ощущаешь его присутствие, его неустанное бдение, и уже не можешь плохо работать, хочется трудиться, стараться, быть лучше и добиваться большего! У меня просто мурашки по коже от этого чувства всегда.
У Вальки тоже пробежали по спине мурашки, и он пристальней вгляделся в Анну. Горящий, азартный взгляд. Тонкое, красивое, одухотворенное лицо. Она устраивала экскурсию не по Москве — по собственному внутреннему миру. Она открывалась ему, но Валька недоумевал от того, что ему открывалось. Подвальчик еще можно было бы посчитать игрой. Но все это — уже нет.
— Идем, — сказала она, почувствовав, что он ее разглядывает, и сорвалась с места.
Валька шумно вдохнул воздух и помчался следом, кинув только взгляд на белые статуи на крыше библиотеки. Как некогда изображения муз венчали, верно, храм Аполлона, так были и эти белые фигуры. Валька успел заметить гармониста, сталевара с огромными щипцами и художника с мольбертом. Но больше всех поражал юноша-скульптор, вальяжно облокотившийся на большую, вполовину своего роста, античную голову с вьющимися волосами и пустотой вместо глаз. Античность в античности — идея, которую хотел передать скульптор, мелькнула в голове у Вальки, но не удержалась, снесенная вихрем бега за Анной.
Так дошли до храма Христа Спасителя, и Валька застыл, обалдев от его тяжелой византийской громады. Анна, заметив это, фыркнула презрительно и рассказала о бассейне, бывшем на этом месте, и о проектах Дома Советов безумной высоты с огромным, венчающим его Лениным.
— И чего не построили? — спросил Валька.
— Вроде грунт здесь слабый, река все-таки, не выдержал бы веса.
— А это как же? Легче, что ли?
— А это что? Торт с кремом! — сказала она и решительно шагнула на «зебру». Машины тормозили, давая ей дорогу.
Туристы тянулись в гигантские двери храма. Некоторые женщины на ходу повязывали платки, кто-то останавливался перед входом, чтобы перекреститься. У Анны на лице отразилась брезгливость.
— В средневековье мы впадаем, — сказала она глухо. — Отыгрываем историю назад. После века просвещения, после всех колоссальных достижений разума вернуться обратно к засилью религии, ко всем этим мелким суевериям и мракобесию… — Она начала было говорить запальчиво, как накануне в подвальчике, но сама остановила себя и закончила презрительно: — Это по меньшей мере неумно.
— А как же лопух? — подумав, спросил вдруг Валька.
— Какой еще лопух? — не поняла она.
— Ну, тот, что на могиле над всеми нами вырастет. Лопухом-то становиться не хочется.
— Ну, знаешь ли! — фыркнула она и поморщилась, однако не нашла, что сказать.
Они нырнули в сквер возле храма, миновали памятник Царю-освободителю и, оказавшись на набережной, вышли на пешеходный мост. Вальку повеселили всех калибров замки, развешенные на фигурной изгороди, но Анна презрительно прошептала: «Мещанство». Она бы бежала дальше, только Валька все-таки задержался здесь, перевесился через перила и стал глазеть на Кремль, на огромные, темные, мрачные здания на другой стороне реки, потом обернулся и смотрел на бурую воду, на кондитерскую фабрику из красного кирпича, на нелепого Петра за ней, вздыбившего море. Заходящее солнце косо било желто-алыми лучами через прорехи набухших дождем туч. Анна глядела снисходительно. Ветер дул с фабрики и нес запах шоколада. От него Валька почувствовал голод и получил лекцию о жизни рабочих и стачечном движении в Москве перед революцией. По голосу Анны было слышно, что она очень жалела, что не жила в те смутные, романтические годы. Валька слушал молча, смотрел на нее все тяжелей и напряженней и вдруг приблизился и поцеловал в губы. Запах шоколада перекрылся ароматом флиртующих, грешных духов, идущим от нее.
Тут полил дождь, сильный, отвесный, совсем не осенний. Для порядка даже немного громыхнуло. Они побежали. Заскочили в кафе-стекляшку перед храмом, но проходить не стали, стояли в дверях вместе с такими же горемыками, с волос на лицо стекала вода, и Валька заметил, как Анна взглядывает на него — не прямо, а украдкой, изредка. Задержись они еще, и Валька предложил бы сесть за столик, несмотря на твердый Аннин запрет. Он уже прикинул даже, сколько в таком месте может стоить кофе, но дождь поослаб, и официанты попросили всех мокрых на улицу. Продолжать экскурсию не имело смысла, они спустились в метро. Валька почувствовал со всей неизбежностью, что сейчас Анна снова растворится в этой подземной гремучей реке, попытался обнять ее, но она увернулась. Тогда с тоской он сказал:
— Может, все-таки где-нибудь посидим?
Чуть заметное раздражение мелькнуло на дне ее глаз.
— Я просила тебя больше не изображать золотую молодежь.
— Я и не буду, — радостно разулыбался Валька. — Пойдем, куда ты хочешь. В любую столовку при заводе.
Она покачала головой с таким выражением, будто говорила: «Ну и дурак».
— Сегодня воскресенье, столовки закрыты вместе с заводами, — сказала она. — А я не хочу, чтобы ты хорохорился передо мной, это ни к чему и унизительно.
— Не буду, — согласился Валька.
— И чтобы так ущемлял себя — тоже не хочу. Мне твоих жертв не надо.
— Как скажешь, — кивнул он охотно.
— Чего же тебе тогда надо? Просто пообщаться?
— Ну да, — повел бровью Валька и шмыгнул. — В тепле только. И с чашечкой кофе. Еще бы, конечно, ликерчику и трубочку. Чтобы тепло совсем стало…
— Пижон, — фыркнула Анна. — Без штанов, но в шляпе. Ладно, — подумав, согласилась она. — Поехали.
8
Место, где они устроились на время, находилось в подвале и было чем-то средним между пивбаром, рокклубом и студенческой столовкой. Крашенные коричневой краской столики в полутемных запутанных коридорах и тупиках, за занавесью сигаретного дыма шатались фигуры молодых людей, одетых в духе стиляг шестидесятых годов, то в узкое, то в клешеное, но обязательно разноцветное. В дальней комнате шла репетиция, там то и дело начинали одну и ту же песню мощным гитарным аккордом и барабанным ритмом, но не доигрывали и первого куплета, как ударник бросал палочки и громко матерился. Кофе здесь был дешевле, чем чай, но дороже, чем водка. Официантки — такие же девочки-студентки в узком и цветастом, с театрально обведенными черной тушью глазами, что делало их всех одинаковыми, похожими на Пьеро, — выныривали из полумрака и стоячего дыма с непредсказуемостью призраков. Анна заказала кофе и водку, официантка принесла, кроме этого, два кусочка хлеба и пепельницу.
Довольно долго Валька и Анна сидели молча, отогреваясь. Пили и рассеянно смотрели по сторонам. Потом Валька смотрел только на Анну, и взгляд его становился все более тяжелым, сумрачным. Неясная мысль лежала в глубине этого взгляда. Анна крутила в тонких пальцах пустую прозрачную стопку, смотрела только на нее, и брови были нахмурены, как будто она думала о чем-то недобром. Не с таким лицом она сидела напротив в первое их свидание, не с таким лицом слушала речи в подвале, не такой была на улице всего час назад. Словно бы что-то неизбежное проявилось опять между ними, и тяжелая, сумрачная сила, идущая от Вальки, захватывала ее. И она уже не сопротивлялась, как чему-то безысходному. Она словно прозревала перед собой путь жертвенности и готова была к нему. И Валька, видя это, почему-то злился. Где-то очень глубоко он был оскорблен этим, но что именно уязвляло его гордость, понять не мог. «Погоди, погоди же, — твердило что-то внутри него, сжимая злые кулаки. — Мы еще посмотрим, какая ты. Барышня, институточка, белая кость…» Мысли были бессвязны, Валька сам не понимал своего внутреннего злорадства. Он чувствовал только, что тот канат, за который он упрямо и тупо тянул все эти дни, все мучительные встречи с Анной, уже перетянут на его сторону и вот-вот весь будет у его ног — и она вместе с ним. Надо совсем чуть-чуть — уже не усилий, а времени. Валька хмелел от осознания этого и все больше смелел.
Ему хотелось курить, но не ту мутоту, что лежала у него в кармане. Он встал, устояв от качнувшейся в голове белой волны, дошел до соседнего столика, загребая ногами, будто переходя ручей, и попросил у сидевшего там юнца сигарету. А когда обернулся, чтобы идти назад, уперся взглядом в стену, под которой они сидели, в псевдосоветский рисунок на ней, в какую-то смутно знакомую копию: жизнерадостные люди, мужчины и женщины, все в национальных костюмах, вереницей шли куда-то налево, в угол. Белые колонны, ломящиеся от фруктов и овощей корзины в руках и на плечах дородных женщин; породистые коровы с набрякшими сосцами, лишь коснись — брызнет белое, пенное, ароматное; небольшой трактор на заднем плане, голова крупногрудой рабочей лошади. Яркие краски, беспечные здоровые люди, свисающие сверху виноградные лозы, изогнутые рога и цветочные розетки — вечные, нетленные символы изобилия и процветания империи. Бессмертное шествие народов-дарителей, протянувшееся из-под пластов времени и истории, от песчаного Шумера и пряной пурпурной Персии в сталинский классицизм, столь же обильный народами и благами. Самоуверенная сила, запечатленная в лучшие годы, была даже в этой жалкой кабацкой фреске, всего лишь копии копий настоящего барельефа, настоящих дарителей. Но и с нее шла та же мощь, и она сияла белым, кипенным, ослепительным солнцем.