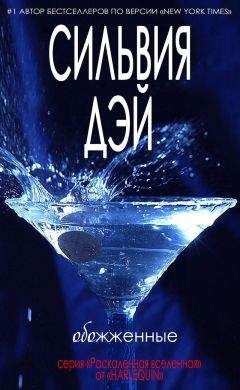Павел Загребельный - Разгон
Они потеряли счет дням, казалось, все умрут среди скользких глиняных глыб, о тех, что под землей, уже забыли и думать. Так им и надо! Жаль, что не все там! Можно ли было упрекать их за неумение встать над собственным горем и ощутить смятение и страх заживо похороненных в недрах горы? Если отняты у тебя все надежды, тщетно ждать, чтобы ты дарил их кому-то другому. Дарят лишь то, что имеют. Может, думалось бы о замурованных не с такой ненавистью, если бы охранники хотя бы раз попробовали обратиться к пленным, как к людям, попросить о помощи тем, что в горе, но, не имея в душах ничего человеческого, как могли они надеяться найти это в других? Кричали, били, убивали - за что получали холодное презрение, равнодушие и упорный саботаж.
Но как ни медленно ковырялись в глине пленные, все-таки должен был прийти день, когда ударили они кирками и услышали крик, человеческий крик отчаянья, радости, муки, и те, кто еще мгновение назад казался им врагами, стали вдруг людьми, и, сами обессиленные, истощенные, почти умирающие, они бросились разгребать мокрую глину, расширять отверстие, работали на коленях, раскапывали уже и не кирками и лопатами - руками. Часовые, враз ободрившись, бросились отгонять пленных от образовавшегося отверстия, чтобы не смешались они с темп, кто должен был выбраться на поверхность, не загрязнили своим прикосновением, своим дыханием чистоты арийцев, не уловили даже запаха арийского пота. Теперь невидимая линия постов пролегала не только между пленными и свободным пространством, но и возле узкого отверстия, однако эсэсовцы, как ни были они быстры и ретивы, не успели, их опередили те, кто рвался на волю из недр горы, вылетали оттуда не помня себя, вытолкнутые менее ловкими и не такими счастливыми, не такими удачливыми. Самым первым норовил выпрыгнуть под холодный, но такой живительный дождь кривоногий старичок в черном пальто с бархатным, узеньким воротничком и в мягкой широкополой шляпе. Старичка тащили назад, дергали со всех сторон, отпихивали и оттирали, он вырывался и, наверное, опередил бы всех, но ему мешал огромный портрет в черной узкой раме, который старичок толкал перед собой. Кончилось тем, что старичка все же втоптали в глину, портрет упал под ноги, стеклянно сверкнули с портрета дико выпученные глаза человека в седластой высокой фуражке, с черной щеточкой усов под набрякшим от истеричности носом. Эсэсовцы не знали, поднимать старичка или хвататься за портрет, а из-под земли между тем со стонами, с плачем, с проклятиями вырывались женщины, дети, выползали старики, которых сбивали с ног, молодые матери выносили младенцев, высоко поднимая их над людской толчеей, женщины постарше путались в длинной одежде, молодые рвали на себе одежду, оголяясь порой до бесстыдства, тянулись острыми ногтями к лицам эсэсовцев, некоторые бросались и на пленных, но отступали не то от стыда, не то от брезгливости. Что им фюрер, что им идеи, честь, верность, раса! Жизнь дохнула им в омертвевшие в подземелье лица, влекла холодным блеском молодого льда на одежде, головах и лицах этих странных чужеземцев, спазматическая радость избавления от смерти, удушья, темноты, воды, глины, камня искала какого-то выхода. Безумствовали, неистовствовали, не помня себя. Где та немецкая сдержанность, где тот орднунг, где то послушание!
Профессор, Капитан и Малыш очутились среди обезумевших от освобождения, выбраться оттуда уже не могли, их толкали, на них кричали, их обвиняли, их благодарили, потом вдруг появилась возле них красивая молодая женщина, черноглазая, гибкая, уставилась на них троих, вмиг выделила из них Капитана, бросилась ему на шею и стала его целовать. От неожиданности Капитан не удержался на ногах, упал вместе с женщиной в грязь, но черноглазая и тут не отпустила его, одной рукой обнимала Капитана, целовала его в щеки, в глаза, в губы, а другой неистово, в дикой поспешности рвала на себе одежду, выкрикивала между торопливыми поцелуями: "Возьми меня! Возьми меня всю! Я хочу тебя! Только тебя!"
Это было уже и не безумие, а какое-то совершенное одичание. Еще несколько молодых женщин, не то растревоженных черноглазой, не то так же обезумевших, кинулись на пленных, одна ухватилась за поляка, две другие за итальянцев, еще одна бросилась к Профессору. Малыш хотел как-нибудь помочь своим товарищам, напомнить немкам уж если не о пристойности, то хотя бы об угрозе смерти, которая неминуемо нависала над каждым, но его немецкий язык ограничивался такими словечками, как "нох" и "хох", "ферштеен" и "никс", типично крематорное эсперанто, а тут не помогли бы даже лучшие ораторы мира.
Эсэсовцы забыли о старичке с портретом, угроза германской чести и крови была столь очевидна, что они мгновенно обрели твердость и решительность, теперь удары сыпались уже не только на пленных, но и на немецких женщин, за женщинами гонялись с автоматами, женщин отрывали от пленных, Паралитик попытался оторвать от Капитана и ту черноглазую, кричал ей, исходя пеной:
- Ты, курва! Хочешь висеть на дереве вместе с грязным русским! Тебе мало немецких мужчин?
Он ударил ее раз и два автоматом, прыгнул сапогами прямо на Капитана, только тогда женщина повернулась к Паралитику, подхватилась с земли, заступая собой Гайли, который поднимался тяжело и неуверенно из грязи, прокричала в лицо эсэсовцу:
- Это ты - немецкий мужчина? Это вы все? Почему же вы все такие чистые, а они - грязные? Кто спасал нас от смерти? Кто не боялся запачкать рук? Мы хотим с ними! С ними, а не с вами! Слышите?!
Лунатик и Боксер бросились на помощь Паралитику, но не могли протиснуться сквозь плотную толпу женщин, которые с болезненным любопытством и сочувствием присматривались к тому, что происходит между одной из них, русским пленным и немецким солдатом. Большинство женщин, выбравшихся из бомбоубежища, торопилось уйти, боялись быть заподозренными даже в сочувствии той, разбушевавшейся.
Эсэсовцы ничего не могли поделать. С женщиной - не то, что с истощенными до предела заключенными, да еще поставленными вне всех человеческих законов. Молодая немка и в мыслях не имела защищаться и оправдываться - она продолжала дерзкое наступление.
- Вы, проклятые собаки, - кричала она эсэсовцам, наставляла на них грудь, разбрасывала в отчаянных взмахах свои длинные черные волосы, - вам хотелось, чтобы мы подохли в подземелье? Или, может, это вы копали? Может, ваши руки в глине? Может, вы спешили нас спасти? Вы чистенькие! Вы - всегда чистенькие! Мы ненавидим вас, а этих любим! Этих грязных и полумертвых, как и мы сами! Замученных, как святые!
Профессор и Малыш потихоньку спрятали Капитана от эсэсовских глаз, тут важен был каждый миг: пока звучали только слова, но могли прозвучать и выстрелы.
А на помощь эсэсовцам пришла какая-то старая женщина, вся в черном, поблекшая и измученная, с голосом тихим и горьким.
- Криста, что с тобой, - попыталась она угомонить молодую. - Ты позоришь память моего сына. Взгляни на себя...
- А, это ты, старая ведьма! - словно бы даже обрадовалась та, которую, оказывается, звали Кристой. - Ты тоже уцелела? Выползла из-под земли, как недодавленный червяк? Спаслась из пекла, из которого не смог вырваться твой сын? Не прикасайтесь ко мне! Ненавижу! Всех вас ненавижу! А этих люблю! Хочу любить того, кого выбрала! Хочу привести его в свою безупречную немецкую постель! Где он? Зачем вы его забрали? Умеете только забирать и отбирать, на другое неспособны!
Зашлась в бессильных рыданиях, и тут старая женщина сумела наконец справиться с нею, грубо толкнула ее перед собой, почти погнала прочь, и эсэсовцы могли бы усмотреть в этом вызов и укор за то, что не сумели укротить Кристу, но у них было достаточно своих забот, их головы уже обмозговывали самые утонченные и самые жестокие способы наказания пленных, и прежде всего маленького красивого азиата, прозванного Капитаном. Если их и удерживало что-то от немедленных действий, то не неловкость перед женщинами и детьми, не гневные слова Кристы, не какие-нибудь там человеческие чувства, от них они были освобождены еще с самого детства, а отсутствие приказов, своевременных, точных, кратких и в то же время исчерпывающих. Даже не имея приказов для непредвиденного случая, они охотно поддались бы автоматизму поведения - броситься на пленных с прикладами, со штыками, могли бы пристрелить кого-то для острастки (опять-таки все угрозы падали прежде всего на Капитана), но бившаяся в истерике молодая женщина стала им помехой, она внесла нежелательную сумятицу в их устойчивость и порядок. Когда же порядок нарушается, то следует немедленно его восстановить, что в данном случае означало: отделить спасителей от спасенных, отогнать пленных как можно дальше от цивильных немцев, не допустить преступного смешения, щедро применяя надлежащую жестокость. Все тут делалось с нечеловеческим шумом, с непременными побоями, оскорблениями и угрозами. Путаясь в длинных полах длинных обледеневших плащей, охрана сгоняла пленных вниз к путям, сбивала их в беспорядочные шеренги, считала и пересчитывала, не сбежал ли кто, не потерялся: "Айн, цвай, драй, фир"... Считали советских пленных, итальянцев, поляков. Были ретивы и усердны, не допускали даже мысли о малейшем послаблении, не смущало их быстрое приближение краха, не знали сомнений. "Deine Ehre heiBt Treue!" - Твоя честь в верности". Верность кому и чему? Тому, с безумными выпученными глазами, портрет которого только что был втоптан в грязь там, наверху, и лежал там и поныне? Безопаснее было прикинуться, будто не заметил того, что случилось, ибо если ничего не случилось, то не за что и карать.