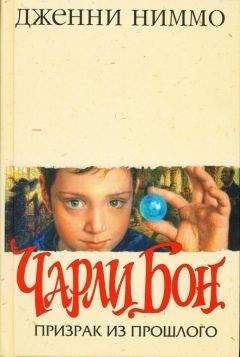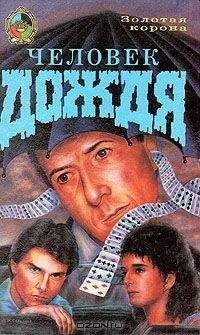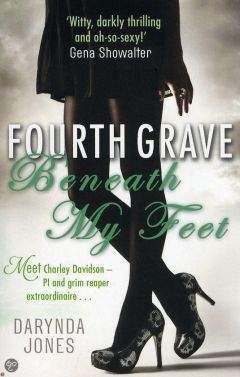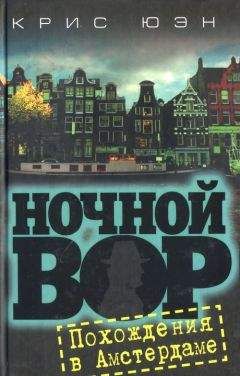Евгений Гришковец - Реки
Я рассказывал им про то, как сильно болят пальцы на ногах, когда накатаешься на коньках и не заметишь, что пальцы в тесных ботинках коньков совсем одеревенели от холода. Я им говорил, что когда засовываешь замерзшие ноги в холодную воду, вода кажется горячей. Они удивлялись, не очень верили, но завидовали и этому.
Как они могли представить себе такое, когда я сам не мог представить себе, как может быть не жарко на юге у моря. Я не мог тогда представить себе южной зимы. И я не мог тогда понять, что можно жить без морозов. Что мороз – это не обязательно.
На меня огромное впечатление произвели рассказы Джека Лондона. Мне было лет двенадцать, я прочел несколько рассказов, был потрясен и за год прочел собрание сочинений Лондона… Я даже прочитал все рассказы про южные моря, не очень понятный мне тогда роман «Мартин Иден», и прочую тягомотину типа «Маленькой хозяйки большого дома». Но северные рассказы поразили меня. Поразили тем, чем и должны были поразить, то есть ощущением всепроникающего холода. Рассказ «Белое безмолвие» был таким, что когда я прочел его, я отложил книжку и не мог придти в себя, все думал и думал, думал и думал.
В рассказах Джека Лондона были, например, такие повторяющиеся детали, как замерзшие спиртовые градусники. Неоднократно герои его рассказов, выйдя из хижины, глядели на такой градусник и видели, что он замерз на отметке… Не помню точно, на какой. Или также неоднократно в том или ином рассказе говорилось, например, что Мейлмуд Кид плюнул, и услышал треск, это слюна замерзла еще на лету.
Но больше всего меня поразил рассказ, где один молодой парень пошел из одного поселка в другой на вечеринку, как раз в такой мороз, когда градусник замерз, и слюна замерзала. Идти было недалеко, он пошел, а за ним увязалась собака. Он шел, и, переходя через реку, попал в полынью, и намочил ноги. Нужно было непременно просушить обувь, иначе смерть. Он быстро собрал дров, спички были при нем, костер даже начал уже разгораться, как вдруг с сосновой ветки упал снег и погасил костер. Просто он сложил костер прямо под деревом. Он снова сложил костер и попытался его зажечь, но пальцы уже не держали спички и вообще не слушались от холода. Дыханием уже невозможно было их отогреть, тогда герой рассказа стал гоняться за собакой, которая так и не уходила от него. Он хотел поймать собаку, разрезать ей живот, и согреть пальцы в горячих внутренностях. Он пытался, но собака уворачивалась, в конце концов, парень сел и замерз, не дойдя совсем немного до дома, где его знакомые веселились и поджидали его.
Я читал эту историю и пытался понять и представить, как такое возможно, и что при этом должен чувствовать человек. То есть наш мороз был морозом, в котором я родился и жил. А тот мороз, который был там в рассказе, меня пугал. То есть я реагировал на холод Джека Лондона так же, как любой нормальный человек. Так же, как тот, кто родился и живет там, где даже не бывает снега.
Когда из-за низкой температуры отменяли занятия в школе, мы бежали в кино, или даже просто играть во двор… А там Аляска, собачьи упряжки и настоящий смертельный холод. А у нас нормально. Нормально!
* * *Сколько бы американские актеры не пытались изобразить русских в кино, у них ничего не получается. Чаще всего Россию изображают занесенную снегом. А если снег – значит зима, а если зима – значит холодно, а если холодно – значит герои должны быть тепло одеты. А что значит быть тепло одетым по-русски? Как проще всего изобразить русского человека зимой? В шапке-ушанке! И тут можно пригласить лучших консультантов, купить настоящую шапку, и даже поехать снимать кино в Россию зимой, все равно у американца не получится надеть шапку-ушанку как надо. Она на американце всегда будет не по размеру, не того цвета, да и вообще будет неуместна. Американец никогда не сможет надеть шапку так просто, и не думая об этом, как сибиряк. А самое главное, он никогда не почувствует в шапке ее обязательной необходимости, как чувствуем это мы…
У меня был приятель в родном городе, папа которого африканец. Когда-то, студентом, он приехал в Новосибирск, познакомился с красивой студенткой, которая изучала там французский язык, в результате появился мой приятель. Он очень темнокожий человек, и по нему сильно видно, что Африка для него не чужой континент. Но как-то я не придавал этому значения. Мы ходили с ним в соседние школы, частенько играли вместе, и так далее. Он был просто наш товарищ, такой же, как мы, и ничем особенным не отличался. Он одевался и носил шапку как надо. Он был сибиряк. В нашем городе совсем не было чернокожих людей… Он был наверное единственный. Но он был сибиряк.
Когда же я с родителями приехал в Москву зимой и увидел в первый раз в жизни чернокожих, я подумал: «Вот какие они, негры!» Они одеты были в какие-то нелепые пальто, замотаны были в полосатые шарфы, и на головах у них торчали яркие вязаные шапочки с помпонами. Они шли по улице, веселились, и все подряд фотографировали. Я потом рассказывал про них тому моему приятелю…
– Ты знаешь, они одеты были, как клоуны, – смеялся я. – Как они в такой одежде не замерзали?
– Да-а-а, – говорил мой более, чем смуглый товарищ, – простудятся, тогда поймут.
Он, в своей потертой каракулевой ушанке и в помятых валенках, совершенно не ассоциировался с теми иностранными темнокожими людьми, что я видел на московской улице. Шапку он носил правильно.
Когда мы встретились с ним в студенческие годы, он мне рассказал, что служил в армии недалеко от Байкала… А точнее, за Байкалом.
– Однажды, – говорил он, улыбаясь, – зимой, в воскресный день, мы за территорией воинской части стали играть в снежки. Погода была хорошая, нас отпустили из части в город. Мы шли по дороге и вдруг стали играть в снежки. А красота такая! Лес кругом, снега свежего полно, солнышко, до города идти далековато. Да и городок-то такой маленький. Ты представляешь себе, где это вообще? За Байкалом вообще! Глухомань! И вдруг едет машина военная. Мы стали от снега отряхиваться. Машина – это значит начальство. И вдруг эта чертова машина останавливается, оттуда выглядывает генерал в папахе и зовет меня. Я к нему подбегаю и докладываю: «Товарищ генерал, рядовой такой-то (не помню теперь его фамилии, но фамилия такая простая и очень русская) по вашему приказанию прибыл». Вот так говорю и вижу, что генерал-то с похмелья и к тому же уже пьяный. Посмотрел на меня генерал, широко перекрестился, захлопнул свою дверь и уехал, не сказав ни слова…
* * *Я помню свою кроличью шапку. Она уже была не новая, её отдал мне донашивать дед или отец. Черная кроличья шапка, которая выдержала такие испытания! Она быстро стала бесформенной, точнее, принимала любую форму легко. Утром, придя в школу, я сминал её и заталкивал в рукав. После уроков мы бегали и кидались шапками, или то одной, то другой шапкой, в том числе периодически и моей, играли в футбол, точнее, просто пинали её по коридору школы. Моя шапка каждый день намокала от снежков и пота, а за ночь высыхала на батарее. Эта шапка выдерживала все и оставалась шапкой-ушанкой. О её красоте я не задумывался, но то, что она была крепкая – это точно.
Пропала эта шапка, продержавшись на моей голове две зимы. Пропала весной. Мы с друзьями пошли смотреть ледоход. В конце марта или в первых числах апреля лед на нашей реке взрывают, чтобы он сошел раньше, и не было уж совсем сильных паводков. Мы пошли на мост, потому что кто-то сказал, что лед утром взорвали.
Мы стояли на мосту и смотрели вниз. Народу было много. Ледоход так шумел под нами, что приходилось кричать. Огромные темные куски льда быстро ползли, раскалывались о каменные опоры, казалось, что мы стояли на носу ледокола, который шел вперед и колол арктический лед. Зрелище было столь завораживающим, что мы смотрели и смотрели. И еще где-то в глубине души я хотел, не надеялся, а именно хотел, увидеть, как ледоход закончится. И я даже пытался представить себе, как вдалеке блеснет чернота открытой и свободной ото льда воды, и последние льдины проползут под мостом, и потом скроются вдали.
День был солнечный и ветреный, такой день, когда можно зайти за угол дома, спрятаться от ветра, прижаться спиной к чуть-чуть согретой солнцем стене и почувствовать всем сердцем радость прихода весны и тепла… Стоять, жмуриться и улыбаться. Причем, улыбаться такой улыбкой, какой улыбается солнышко на детских рисунках. Я, когда был маленький, как и все рисовал солнцу глаза, нос и рот… И солнце всегда улыбалось.
День был солнечный, и я то снимал шапку, то надевал её снова. И вдруг выронил её, и она полетела вниз. Мост, который якобы построили пленные японцы, высокий-высокий. Шапка летела вниз долго и упала на льдину. Льдина скользнула под мост, я перебежал на другую сторону и долго смотрел, как уплывала на льдине моя шапка. Лед трещал, ломался, было так много движения, и картина ледохода беспрерывно менялась, но я долго видел, как крохотным черным пятнышком уплывала по реке моя старая шапка. Как страшно было видеть, как привычный и родной мне, такой простой предмет, моя шапка, вдруг, стала частью мощной стихии.