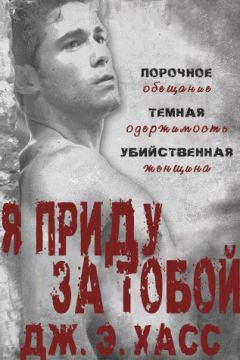Тибор Дери - Воображаемый репортаж об одном американском поп-фестивале
— …четырнадцати лет, под родительским крылышком, в такой же вот дождь ночью пересек границу; ханшагские[8] мочажины вот так же хлюпали под ногами, и тоже холод был… — сказал Йожеф.
— Холод собачий, бедный Йожеф, — сказал Мануэль. — А зачем вы границу перешли?
— Свободы искали, — сказал Йожеф.
— Собачий холод, — сказал Мануэль. — И что, же, нашли?
— Не знаю, — сказал Йожеф.
— Ну, ясно, — осклабился Мануэль. — Где же вы ее искали?
— Сначала в Англии, — сказал Йожеф. — После того как коренное кельтское население было покорено римлянами, а их четыреста лет спустя прогнали англы, англов же — саксы, а саксов — даны, в стране по прошествии следующих пяти веков окончательно утвердилось господство норманнов. Ну, а позже оставалось истребить только индейцев в Северной Америке. В' этом я еще не участвовал. Отцу в схватке с англосаксонскими племенами верх взять, однако, не удалось, и мать вскоре тоже последовала за ним в могилу. Родились оба на упомянутом уже Надьалфёльде, в той его части, что зовется Кишкуншаг.
— Что вздыхаешь, бедняга Йожеф, — сказал Мануэль.
— Господи, поесть бы того замечательного алфёльдского супа с лапшой, — сказал Йожеф. — Его еще картошкой заправляют, а лапша обжаривается предварительно в сале, потом посолить-поперчить как следует… Ни разу не пробовал с тех пор, как уехали.
— И не попробуешь, — сказал Мануэль.
Хотя дождь лил, перед палаткой по узкому деревянному настилу, проложенному по глубокой грязи, вдаль, к эстраде, двигались и двигались длинные ряды людей.
— Родину сменил — и желудок надо поменять, — сказал Мануэль.
Первый, объявленный около полуночи рок-ансамбль пришлось со всем музыкальным снаряжением перенести подъемным краном на подмостки над головами слушателей. Музыканты не сумели пробиться через плотное кольцо из десятков тысяч человек. Уже зажглись юпитеры: шесть наклонно поднятых опор непрерывно извергали свою добела раскаленную плазму с пятидесятиметровой высоты.
— Но из всей трехсоттысячной толпы концерт могли слушать только тысяч десять — двенадцать, — сказал Йожеф. — Те, кто заняли место на ближних уступах холмов, окружавших помост.
— И большая часть радиоусилителей отказала: кабели подмокли, — сказал Йожеф.
— Тщетно, — сказал Йожеф, — люди сидели и часами ждали в грязи и холоде, виднелись только черные провалы ртов, а пения не было слышно. Это сумасшедшее сияние юпитеров…
— И ты здесь? — спросил Рене.
Йожеф посветил карманным фонариком ему в лицо.
— Как видишь, — сказал он.
— Гм, странно, — хмыкнул Рене. — Жена твоя сказала, ты дома остался.
— Ты видел ее? — спросил Йожеф. — Когда?
— Когда? — сказал Рене. — Когда. Сегодня утром. А может, уже днем.
— Где?
— Не помню, — сказал Рене. — Здесь где-то.
— Где — здесь? — спросил Йожеф. — Проветри мозги получше, если только окончательно не загазовался. В палатке видел?
— Нет, не в палатке, — сказал Рене. — Тут где-то, на воздухе. Да, под открытым небом. Лило с нее в три ручья, с бедняжки. Я тоже весь мокрый был.
— Фу, чтоб тебя, — сказал Йожеф. — Она одна была или в компании?
— Вполне возможно, что одна, — сказал Рене. — Не помню. А может, в компании.
— Освещенную, как бы выпяченную вперед эстраду, даже взблескивающие металлом инструменты было видно с вершины холма, — сказал Йожеф, — но ни малейшего звука, ни музыки, ни голосов не долетало.
— Дождь прекратился, — сказал Йожеф. — Однако ночь была холодная, насквозь промокших людей била дрожь. У Рене зуб на зуб не попадал, с пятью-шестью товарищами сидел он в грязи у палатки, спиной подпирая парусину, и то ли возвышенно-потустороннее, то ли низменно-посюстороннее блаженство изображалось на его напоминающем Христа бородатом лице. На правой руке — ранка, но не от гвоздя, какими прибивают к кресту.
— Странное было чувство, — сказал Йожеф, — тьма, глаз коли, ни зги не видно, но слышно, как сотни тысяч людей дышат в темноте.
— Просто смех, — сказал Йожеф, — разыскивать кого-то в этакой темнотище.
— Отведешь туда, где встретил мою жену? — спросил Йожеф.
— Конечно, — сказал Рене, обратив к нему свое юное, осиянное не то неземным блаженством, не то адской мукой лицо Христа, — конечно, если смогу встать, но пока вот не могу. Она сказала, что ты дома остался. Кто сказал? Жена твоя сказала днем, когда мы с ней повстречались.
— Оставьте его, мсье, — сказала Йожефу Марианна. — Он совсем уже дошел. Удивительно, что еще узнал вас. Но если хотите, я могу вас проводить…
— Вы знаете мою жену? — спросил Йожеф.
— Нет, мсье, — сказала Марианна. — Но я была с Рене, когда его окликнула молодая брюнетка с волосами, свернутыми в пучок. Я думала, какая-то девушка.
— Не девушка, — сказал Йожеф, — моя жена!
— Ты в этой темноте, приятель, не то что жены, носа пальцем не найдешь, — по-французски сказал какой-то парень рядом с Марианной. — Но если хочешь, можешь с моей побыть, пока твоя не отыскалась…
— Вы француженка, madame? — спросил Йожеф по-французски.
Громкоговоритель над их головами вдруг ожил, но, похрипев, опять умолк. Луч света с вертолета выхватил из мрака «джип» за палаткой, ударил, как из шприца, в лицо Марианне, — очки ее сверкнули и погасли. Какая-то женщина взвизгнула в ярко забелевшем «мерседесе».
— Я из Канады, мсье, — сказала Марианна. — Если хотите, я вас охотно…
— Нет, с Рене они познакомились только здесь, сказала Марианна, — сказал Йожеф. — И это, сказала она, уже вторая доза с утра, когда они познакомились; правда, он пока впрыскивает под кожу, но ведь известно, сказала она, от этого до внутривенного укола один шаг.
— Мы пошли, утопая в грязи, — сказал Йожеф. — У палатки, за нашей спиной, громко рассмеялись.
— А вы, madame?
— Я врач.
— ???
— Мужа… сопровождаю.
— Лечите?.. Excusez-moi.[9]
— За что же. А ваша жена?..
— Нет, — сказал Йожеф. — По-моему, еще нет. Разве что сейчас…
— В темноте, вокруг беззвучной эстрады, за кольцом слушателей сталкивались мы и с группами поменьше; прижмутся обнаженными торсами друг к дружке — о, это влажное тепло чужой кожи! — и впятером, вшестером, мужчины, женщины, поют в обнимку, сами для себя, — сказал Йожеф. — То же и по трое: вопьются пальцами друг другу в плечи, как когтями, и стоят недвижно лоб в лоб, будто ружейные пирамиды, в столбах дыма, сладковатые клочья которого швырял в меня ветер, — сказал Йожеф.
— Madame, — сказал Йожеф, — я не хочу быть счастливым такой ценой. Не знаю, madame, как вы на это смотрите.
— Хоть в ад, но с ясным умом, — сказал Йожеф. — Не знаю, как вы на это смотрите?
— Счастливы сейчас эти триста тысяч человек, как по-вашему? — спросил Йожеф.
— J'aime ces ombres amoureuses de liberte, — мне по сердцу эти тени, влюбленные в свободу, qui preferent l'angoisse de la mort, которые предпочитают мучительную смерть a l'ennui de la routine, нудной скуке будней.
— Это надо понимать так, что и вы?.. — спросил Йожеф.
— Нет, — сказала Марианна. — Я — нет. Я за мужем присматриваю. И если вы боитесь за жену…
— Я… как бы это сказать, — ответил Йожеф, — я с ума боюсь сойти. Извините, пожалуйста. Вы француженка, вы не будете надо мной смеяться… я люблю ее до смерти.
— Так слушайте меня! — сказала Марианна. — Если вы заметите какую-нибудь перемену в ее поведении, если она вдруг начнет небрежней одеваться…
— Не одевается она небрежней, — сказал Йожеф.
— …если интересы притупятся, — скажем, занималась спортом и бросила, в гости перестанет ходить, встречаться с друзьями; любила читать и разлюбила…
— …читать она и раньше не читала, — сказал Йожеф.
— …аппетит пропал, постоянно хочется пить; жалобы на запоры, зрачки сужены… — сказала Марианна.
— Глаза у нее как море, — сказал Йожеф. — Вы плачете, madame?
Пламя костра взметнулось, осветив лицо докторши: на нем блестели слезы.
— Извините, — сказала она. — Распускаться не в моих привычках. Пожалуйста, не обращайте внимания. Если ваша жена носила платья и блузки с коротким рукавом, а теперь предпочитает длинные рукава, чтобы не видно было следов от уколов…
— Успокойтесь, madame, — сказал Йожеф, — успокойтесь, прошу вас!
Красивая докторша-француженка, расплакавшись, оперлась о его плечо; в темноте больше не за что было ухватиться. Очки ее соскользнули на землю. Йожеф поднял их, стекла были все в грязи.
— Извините, мсье… Вы сказали, глаза у нее как море. Боже милосердный, хоть бы расслабиться наконец; отпустило бы это напряжение…
— И никакого другого спасения нет, кроме этого свинского дурмана? — спросил Йожеф.
— Нет, — всхлипывая, сказала докторша. — Никакого. Пока здоров был муж…
— Он что, неизлечим? — спросил Йожеф.
![BlackSpiralDancer - Unwritten [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)