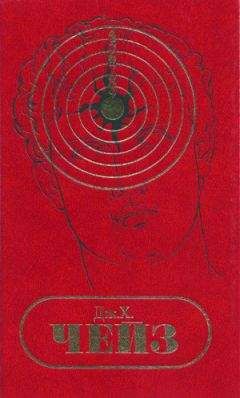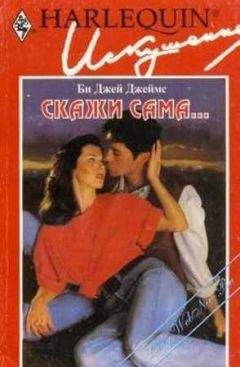Джеймс Мик - Декрет о народной любви
— Знаю, — кивнул Балашов, — почувствовал по вашему дыханию. — Глеб достал из кармана носовой платок, смочил в спирту и обработал порез. Спросил у Кирилла, слышал ли тот выстрел. — Кажется, пуля сбила вон ту ветку, — продолжал Глеб, — повезло вам. Что я говорил: не поймешь, кто против кого сражается. Так и не кончилась миром прежняя война. Повсюду в России старые солдаты, те, что воевали еще при царе, как эти чехи. Когда мы их брали в плен, у чехов и страны-то своей не было. Теперь они получили собственное государство, на родину вернуться пытаются, да новая война не пускает. Говорят, будто они за белых. На самом деле среди них не меньше половины за красноармейцев. Их тысячи, всю Сибирь-матушку заполонили. Все дороги заняли, представляете? Прямо не верится!
— Поверить можно всему, — заметил Самарин, — только не вам.
Балашов засмеялся и предложил:
— Идемте.
Шли молча, пока Самарин не сказал:
— А ведь действительно. Вам я поверить никак не могу.
— Не понимаю, — голос попутчика дрогнул: тот прочистил горло.
— Вы вовсе не цирюльник! А если и цирюльник, то скверный! Цирюльники не носят при себе ни скальпелей, ни спирта, да и люди, которые к ним приходят, не истекают кровью, точно зарезанные свиньи!
— Что ж, бывает, что у меня руки дрожат, когда я брею…
— И как же вы бреете? По горлу — да скальпелем?
— Кирилл Иванович, вы же понимаете, как далеко отсюда до ближайшей больницы! Порой мне приходится делать некоторые хирургические операции…
— Уж не из сибирских ли вы раскольников? Наверняка в этом вашем… как там его… Языке все такие, все до одного! Но вы слишком благородны для цирюльника, да и для лавочника тоже, хотя для политического ссыльного вы чересчур глупы!
— Милостивый государь Самарин, довольно же! Вы же сами сказали, что стараетесь не вторгаться в чужие жизни чересчур глубоко — тем более когда вас не просят!
Кирилл остановился, развернулся и провел рукою по подбородку Балашова. Тот резко отпрянул.
— Я знаю, кто ты такой! — воскликнул Самарин. Рухнул на колени, откинул голову и испустил в небеса громкий, радостный смех. Затем снова взглянул на Балашова и покачал головой: — Я понял, кто ты! Знаю, что совершил и чего лишился! Поразительно. А чехи догадываются? Нет, куда уж им! Наверное, просто считают тебя одним из безобидных сумасбродов… Вот так потеха… хотя я готов поспорить: тот человек… или мальчик? Уж ему-то в Верхнем Луке не до смеху!
— Не лишился! — прошептал Балашов.
— Что, простите?
— Вы сказали «лишился»… Мы ничего не теряем, кроме тяжкого бремени, и обретаем новую жизнь!
Самарин, зевая, кивнул.
— Холодно, — сообщил он. — Стоит мне только подумать о том, каково это — оказаться внутри теплого жилища, как начинаю мерзнуть.
Кирилл отправился в путь, а Балашов — следом, но на сей раз держась на добрые десять шагов позади.
— И что вы намерены делать? — через некоторое время спросил Глеб.
— Отправлюсь в Петербург.
— Но поезда не ходят! А там, впереди, воюют.
— Мне нужно всего лишь убедить ваших чехов посадить меня на один из их поездов. Матула, так, кажется, зовут их командира?
— Да, — подтвердил Балашов. — Но он не вполне вменяем. Душевнобольной.
— Странно, когда ты называешь других не вполне нормальными.
— Кирилл Иванович, я вас умоляю: что бы вы ни делали — не говорите о нашем брате в Языке в открытую! Вы верно сказали: чехи ни о чем не догадываются. Мы их убедили, что всех детей из города отослали в Туркестан, где спокойнее!
— В Туркестан! Ах ты, пройдоха! Но как же знакомая твоя, Анна Петровна? И сын ее, Миша?
— Алеша, а не Миша.
— Так его, значит, Алексеем зовут?
— Пожалуйста, не расстраивайте Анну Петровну!
— С какой стати мне ее расстраивать? — удивился Самарин, до сих пор разговаривавший с Балашовым не оглядываясь и только сейчас встретившийся с собеседником взглядом. В голосе Кирилла послышалось любопытство: — А что, знакомая твоя и впрямь стоит, чтобы ее расстраивать?
Впереди между деревьями показались светящиеся точки.
— Ну, вот и Язык, — сообщил Глеб.
Самарин остановился, рассматривая огни.
— Жалкий городишко, — заключил Кирилл. — Послушайте, мне нужно от вас кое-что услышать. Не докучает ли горожанам тунгусский колдун? Был тут один ловкач, из местных, выехал как-то из леса верхом на паршивом олене, пророчествуя и выпрашивая магарыч?
— Есть один тунгус… Спит во дворе, у штаба капитана Матулы.
— Он самый, чертеняка! Сколько у шамана глаз?
— Один.
Кирилл шагнул к Балашову:
— Ты, должно быть, хотел сказать «один остался»?
— Да, один глаз остался, а еще у тунгуса две повязки: одна на поврежденном глазу, а другая — на лбу Говорит, там у него еще и третий глаз, вот только никому еще видеть его не случалось.
— Хм, — изрек Самарин, — бедняга… Боюсь, его Могиканин прикончит первым…
— Лучше бы вам здесь до утра обождать, — посоветовал Балашов. — По ночам подступы к городу стерегут солдаты-чехи. Уже стемнело. У вас нет документов.
— Дай бутылку — попросил Самарин.
— Негоже сейчас пить-то, Кирилл Иванович.
— А я говорю: давай! — Голос Кирилла изменился. Теперь он звучал так, как в темноте туннеля: голос пожилого человека, бесстрастный, лишенный интонаций.
— Я… я не намерен отдать вам спирт, Кирилл Иванович.
— У тебя духу не хватит воевать!
— Верно, но вам не следует отбирать у меня то, что я не хочу отдать добром. Вы же сами сказали, что не из уголовных…
Рука Самарина метнулась за отворот сюртука и достала нож. Лезвие прижалось к щеке Балашова.
— Отдавай, не то я тебе и остальное отрежу!
Глеб опустил саквояж наземь, осторожно отстранясь от оружия, достал бутыль и протянул Кириллу.
— Ну вот, теперь мне не за что тебя убивать, — сообщил Самарин. — Никому ничего о нашей встрече не говори, точно и не бывало ее. А я не стану рассказывать о том, что ты делал в Верхнем Люке. Считай, мы никогда не встречались. Понял меня? Кстати, что там, за деревьями?
— Луг…
Кирилл рванул в сторону, пробежал через чащу, и силуэт его растворился в темноте опушки под выкрики Балашова: тот просил обождать и не трогать Анну Петровну. Глеб услышал, как единожды, с молодым задором, откликнулся Самарин:
— Паяц!
Муц
Йозеф Муц, лейтенант Чехословацкого корпуса в России, сидел у себя в комнате за столом, работая при свете керосиновой лампы граверным резцом по дощечке вишневого дерева. Ежеминутно сверяясь с выцветшей фотографией Томаша Масарика, Йозеф то и дело склонялся над работой, едва не касаясь ее носом. Дунул на заготовку, прижал к чернильной подушечке для печати. Достал из лежащего перед ним вороха синих четырехугольных бумажек одну.
На бумажке с проставленной цифрой было отпечатано на русском, чешском и латыни: «Первый Славяно-Социалистический Сибирский банк Языка. Триллион крон».
Муц подышал на гравюру и нанес шаблон на пустующее место. На банкноте осталось изображение первого чехословацкого президента. Очки у Масарика вышли смазанными, но тонкая сеть морщинок вокруг глаз была передана превосходно, удалось Муцу и отобразить отстраненную улыбку в бороду — выражение, с которым президент несколько десятилетий выслушивал речи глупцов.
Йозеф достал граверную иглу и вновь поработал над президентскими очками. Важно, чтобы Масарик не выглядел так, словно носит очки слепого. По разумению Муца, глаза хорошего человека всегда должны быть видны.
Монетный двор лейтенанта состоял из большого типографского лотка, установленного ящичками для наборных знаков набок, с прибитой к днищу доской для игры в нарды, испачканной несмываемыми пятнами от мозгов Чупкина, социалиста левого революционного крыла, голову которого снайпер прострелил как раз в тот момент, когда Муц, по обыкновению, выигрывал в споре. Ранее Чупкин не желал признавать ни одно из собственных поражений, подобной же въедливостью отличалось и мозговое вещество, и отскребать разбрызганную массу песком и водою оказалось занятием столь же бесполезным, как переубеждать оппонента в его прижизненных взглядах на роль буржуазии в классовой борьбе.
На лотке лежал гравировальный инструмент. В наборных отсеках хранились материалы по краткому курсу инфляционной истории в Языке периода действий чехословацких законов военного времени: банкноты от одного до ста миллионов крон, а также деревянные оттиски.
Банкнот в одну крону осталось немного. Их хватило на целых два месяца, пока Муцу удавалось удерживать Матулу в пределах натурального обеспечения дензнаков, соотнося количество отпечатанных денег с запасами продовольствия в губернии. Замызганные бумажки утратили всякую ценность.
Муц взял один из оттисков для банкноты в одну крону и пробежался по выгравированным линиям кончиками пальцев. В последний раз шаблон использовали так давно, что чернила успели высохнуть, и руки остались чисты.