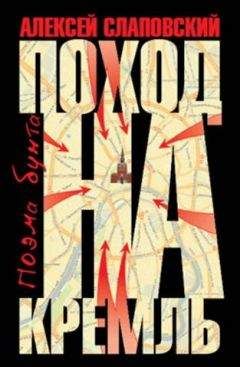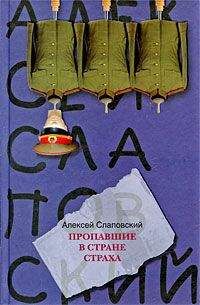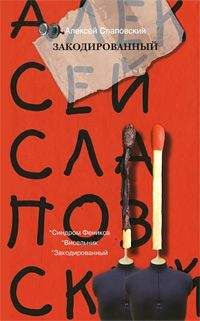Алексей Слаповский - Анкета. Общедоступный песенник
Трое суток, питаясь на ходу, без сна и отдыха, проверял генерал наличность склада — до катушки ниток, до последней портяночки, до малейшей баночки сапожного крема, пересчитал — по одному! — все спичечные коробки и — по одному же! — все куски хозяйственного дегтярного мыла, в продовольственной части взвесил каждый мешок с крупой и сахаром, общупал каждый ящик с тушенкой, количество же хранящейся в специальных буртах свеклы безошибочно определил на глаз. Все переворошил, сверил с записями в тетрадях — все оказалось точь-в-точь.
— А просроченные продукты, говорят, сжигаешь? — охрипло от бессонницы спросил генерал отца моего.
— Так точно! — ответил отец.
— Покажь! — приказал генерал.
— В настоящее время продуктов, предназначенных к списанию, в наличии не имеется! Ближайшая акция — уничтожение тушенки — состоится семнадцатого октября сего года, нынче же только четырнадцатое.
— Приказываю списать четырнадцатым числом! — приказал генерал.
— Слушаюсь! — как положено по Уставу, ответил отец мой, но побледнел, помялся и тихо добавил: — Прошу ваш приказ изложить письменно.
— Что? — прохрипел генерал.
— Письменно… изложить… приказ… — мягко, но твердо повторил отец.
Генерал пристально взглянул в такие же бессонные, как у него, красные глаза отца и сказал:
— Ладно. Подождем семнадцатого.
Три дня его не было видно. На четвертый день он был у склада, где отец мой уже начинал работу. Он вынес двенадцать ящиков тушенки по тридцать банок в каждом, с помощью солдат перетащил их в специально отведенное место рядом с мусорным контейнером, где уже вырыта была яма. Генерал сопутствовал и молчал. Солдаты робели и не просили, как обычно, за работу хоть однусенькую баночку тушеночки на всех (всегда, впрочем, безуспешно). Отец мой сноровисто вскрывал банки, вываливал в яму, потом щедро полил бензином. Генерал смотрел, колупая землю сапогом и, подобно солдатам, тоже будто чего-то стесняясь. Когда вспыхнул огонь, всем показалось, что генерал сделал движение рукой, словно желая выхватить из кострища добро, но тут же, как это умеют государственно-опытные люди, способные жест одного назначения на ходу перекроить в жест назначения противоположного, помахал над костром рукой, будто помогая огню шибче разгореться.
Он стоял над костром до конца. Солдаты закопали яму. Генерал сказал отцу моему: «За мной!» — и повел его. Он вел его через расположение части, он вел его через городок, где была эта часть, он вел его по берегу речки, он привел его в глушь и тишь — на дальний пригорок, где даже ветер если что услышит, то не донесет до людского любопытного слуха, уронит по пути, ослабев.
— Скажи, — попросил генерал, мучаясь жестокой изжогой души, имя которой недоумение, — скажи, только мне скажи, клянусь отцом и мамой и товарищами своими погибшими, Родиной клянусь и, хрен с ней, даже Партией, чем хочешь клянусь, любовью первой своею Нюшей, незабвенной святыней моей, клянусь Землей и Небом, подметками сапог своих, которым скоро уж в гробу лежать вместе со мной от хворостей моих сердечных и от ран, и генеральским лаковым козырьком фуражки моей, которым не раз я прятал глаза от стыда перед лицом вечного человечества, клянусь четой и нечетой, клянусь первым днем творенья и последним его днем, клянусь, падлой буду, никому не скажу, не выдам, не намекну, тебе ничего не будет, клянусь, только скажи — хоть немного, хоть чуть-чуть, хоть раз в жизни — взял себе что-нибудь со склада? — хоть спичку на закурку, хоть тряпицу на утирку, хоть сахара кусок милахе, хоть вина глоток для свахи — молю тебя, — было?
Сглотнул отец мой сухую слюну и сказал:
— Нет.
— Не верю, — прошептал генерал.
— Почему? — по-граждански, по-человечески, с жалостью спросил отец мой.
— Потому что не может этого быть. Не бывает этого.
Отец промолчал, только улыбнулся и глянул на небо. Генерал посмотрел ему в ясные его глаза, посмотрел тоже на небо, но ничего там кроме одинокого в синеве барашкового облачка не увидел.
Тогда сел он на сырую землю генеральской своей жопой и заплакал в три ручья, всхлипывая и утираясь, как деревенский пацан, у которого в городе на вокзале последний рубль лихие люди сперли, и слезами, и соплями заплакал, шмурыгал носом, тер глаза, взмок весь, и только повторял:
— Господи! Господи! Господи да Боже ж ты мой!
Проплакавшись же, сказал:
— Вот что. Не может этого быть и не будет. Или спалят твой склад ночью и тебя под трибунал подведут — или самого тебя темной ночью…
— Пробовали уже, — сказал отец мой, трогая шрам на щеке.
— Ну вот. Послужил, — спасибо. Переведу тебя в большой город, при военкомате кем-нибудь устрою или еще где, годится?
— Да я…
— Это приказ, сынок, — сказал генерал.
И вернулся к себе, где быстро обхлопотал перевод отца в город Саратов, а потом сел писать служебную записку с предложениями по контролю и реорганизации армейской складской службы, писал долго — и писать бы ему до конца и не перечитывать (что я всякому бы пишущему вообще посоветовал), но нет, на середине остановился, чтобы проверить, ясно ли начал. И, по мере чтения, ужас все глубже закрадывался в его сердце — ужас невыполнимого, — и сердце не выдержало этой боли, оно ведь, сердце, таково, что одна боль приманивает другую, вот и подоспели на помощь этой гадине-боли боль от памяти войны, а там и боль от тягот не такой беспорочной, как хотелось бы, службы, а там, добивая, додавливая, явилась боль, названия которой нет, а есть только синоним в виде страшных вопросов:
Зачем я?…
Зачем мы?..
Зачем все!.. — а эта боль и здорового человека доконать может, генерал же, повторяю, был не раз ранен…
Ранен был в грудную область навылет и отец мой, прошедший войну. Оказавшись в Саратове на полуинвалидной какой-то должности, женился на моей матери Софье Дмитриевне, водительнице трамвая, имевшей ребенка-девочку восьми лет, честно предупредив, что в материальном смысле на него долго рассчитывать не приходится: время его отмерено.
Софья Дмитриевна родила меня, Антона Петровича, но не встретил ее у ворот роддома Петр Антонович: воспаление легких свалило его, воспаление простреленных легких — и не поднялся он.
Мама же до последних своих дней воспитывала меня рассказами о честности отца и собственным примером трудолюбивой, простой, но умной и интуитивно образованной женщины, именно она привила мне вкус к чтению, хотя сама читала мало — засыпала с книгой от усталости. Когда же мне исполнилось тринадцать лет, не стало мамы, и сестра Надежда, которую я совсем не ощущал сводной, заменила мне ее — и заменяет по сей день…
Такова логическая цепочка родовых характеров, основное отличие которых — честность и противостояние. Когда я на заре молодости осознал в себе эту наследственность, то просто-напросто растерялся. Я вдруг понял, что, если хочу идти по стопам рода и противостоять, то противостоять придется чуть ли не всему, в том числе и самому себе! — поскольку к тому моменту я был вполне сложившейся типической разношерстной личностью, героем нашего времени в худшем смысле этого слова. Может, благодаря генам, хорошего во мне было больше, но…
Я сравню ситуацию на примере вот хотя бы этого компьютера. Я ведь пользуюсь им примитивно, как пишущей машинкой, ну, или играю для отдыха — или играет Настя, — а когда любопытствую забраться в какую-нибудь неизвестную программу (они изображены заманчивыми рисунками — пиктограммами) и пытаюсь произвести наугад какие-нибудь операции, то часто выскакивает табличка:
ЗАПУСК ПРОГРАММЫ НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ!
Понимаете? То есть имеется нечто, оно существует! — но, чтобы оно показало себя и заработало, нужно некое приложение, с которым следует эту программу, выражаясь компьютерным языком, связать. Не знаю, с каким приложением в окружающем мире или в себе связали свои программы мой дед и отец, я же, к сожалению, ничего такого ни в окружающем мире, ни в себе не отыскал (или не хотел отыскать!) — и в результате оказался в этой самой экологической нише, которой даже долгие годы гордился.
Но — хватит!
Хватит подавлять в себе заложенную предками программу.
Нужно восстановить логическую цепочку — и сама жизнь мне подсказала, как это сделать.
Во-первых, в самом деле, нужно жениться. Без всякого хвастовства, объективно — я не такой уж плохой человек. И могу родить и воспитать неплохих детей. Если же я этого не сделаю, легко сообразить, что в окружающей жизни отрицательных детей, а потом и людей — будет больше, и в этом — часть моей вины!
Конечно — любовь…
Но она бесплодна. Я люблю душой, умом понимая, что в любимой моей женщине почти нечего уже любить — как ни грустно…