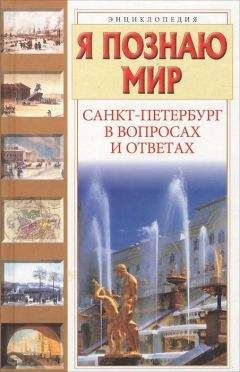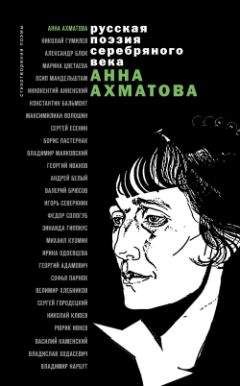Вячеслав Недошивин - Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург
«Ходячий ангел», «Дон Кихот», «всекоктебельское посмешище», просто «сумасшедший» – как только не назовут Мандельштама в этот приезд в Петроград. В Доме литераторов, где была организована писательская столовая, его в те дни видел критик Голлербах: «Вот чинно хлебает суп, опустив глаза, прямой и торжественный Мандельштам. Можно подумать, что… вкушает не чечевичную похлебку, а божественный нектар. В пальто, в меховой шапке с наушниками, подсаживается… к знакомому и сразу начинает читать стихи… и никто его не услышит, а кто услышит, не поймет… что, собственно, нужно этому чудаку с оттопыренными красными ушами, над которыми болтаются траченные молью наушники… Он какой-то бездомный, егозливый и, вероятно… несносный в общежитии, но есть что-то трогательное в том, что он так важно вздергивает кверху свою птичью взъерошенную головку, и в том, что всегда небрит, а на пиджаке у него либо пух, либо не хватает пуговицы. К нему бы нужно приставить хорошую русскую няню, которая мыла бы его и кормила манной кашей. А он читал бы ей… стихи».
Впрочем, первыми, к кому побежал поэт, вернувшись в Петроград, были друзья-поэты: Георгий Иванов и Гумилев. «Мы трое, разбросанные было в разные углы Европы, – вспоминал Иванов, – снова сидели вместе у огня и читали друг другу стихи». Мандельштам, напуганный арестами и тюрьмами на юге, полувоенной обстановкой в Петрограде, волновался: как ему достать советский паспорт. «Тебе надо представить в совдеп какое-нибудь удостоверение личности, – сказали друзья. – Есть ли оно у тебя?» – «Есть, есть», – радостно закивал Мандельштам и вытащил из кармана смятое и порванное свидетельство на право жительства в Севастополе, выданное каким-то градоначальником… генерала Врангеля… Ну, разве не сумасшедший?
Нет, все-таки права Ахматова: «Осип – это ящик с сюрпризами». То он крадет у Макса Волошина не только роскошного Данте, но и свой сборник стихов, который с трогательной надписью подарил недавно матери его. То не платит врачу за вставленный золотой зуб (из материала дантиста, кстати), и тот жалуется в письме: «Допустимо ли, чтобы интеллигентный человек мог по окончании работы просто заявить: “Я сейчас денег не имею…”» То его арестовывают в Киеве за спекуляцию: захотел гоголь-моголя, купил яйцо, но рядом продавали шоколад «Золотой ярлык», который стоил 40 карбованцев. У поэта нашлось 32 карбованца, и он предложил вдобавок яйцо. А торговка рядом, услыхав это, заверещала: яйцо купил у нее за семь карбованцев, а предлагает обменять за восемь. В итоге – ночь в участке, где яйцо это кто-то раздавил… Такой вот «гоголь-моголь». Наконец, уже в Петрограде, подрабатывая в издательстве «Всемирная литература», он задолжал знаменитой Розе Васильевне, вахтерше и лавочнице, торговавшей сахаром, маслом, патокой и даже салом. Хитрая торговка не просто соблазняла пишущую братию сторублевыми коврижками и карамельками, которые раскладывала прямо на лестнице, но и «собирала» в альбом стихи, посвященные ей. Лебезя перед знаменитостями и одновременно презирая их, она простодушно признавалась: «Через сто лет мой альбом будет стоить агромадные деньги. Когда вы все, с позволения сказать, перемрете…» Кстати, так и случилось. Альбом ее действительно хранится ныне в Пушкинском Доме. Ведь ей оставили автографы Сологуб, Гумилев, Кузмин, Ремизов, даже Блок. «Печален мир. Все суета и проза, – написал ей, к примеру, Георгий Иванов. – Лишь женщины нас тешат да цветы. Но двух чудес соединенье ты. Ты – женщина. Ты – Роза». Мандельштаму, узнав, что он поэт «стоющий», Роза тоже подсунула свой альбомчик. «Вы мне, господин Мандельштам, одиннадцать тысяч уже должны, – сказала. – Мне грустно, а я вас не тороплю. Напишите хорошенький стишок, пожалуйста». «Ходячий ангел» задумался на минуту и легко вписал в альбом: «Если грустишь, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч, // Помни, что двадцать одну мог я тебе задолжать…» Роза с улыбкой начала читать, но, разобрав, покраснела, задрожала, вырвала лист из альбома и швырнула его в лицо поэта: «Отдайте мне мои деньги! Сейчас же, слышите!..» Когда Одоевцева, видевшая сцену, сказала Мандельштаму, что это не такая уж и большая сумма, что можно отдать ее по частям, он искренне удивился: «Чтобы я отдавал долги? Нет, вы это серьезно? Вы, значит, ничего, ровно ничего не понимаете, – с возмущением и обидой повторял он. – Чтобы я платил долги?..»
Да, он был такой! Но за стихи ему все можно было простить. Как-то в начале перестройки, в декабре 1991 года, в грошовой газетке Фрунзенского района Ленинграда, весь номер которой был посвящен Гумилеву, появились воспоминания Дорианы Слепян. В 1920-м она была шестнадцатилетней гимназисткой и бегала на все вечера, где выступали Георгий Иванов, Пяст, Кузмин, Гумилев. Слепян не пишет, кто ее познакомил с Гумилевым, но зато запомнила на всю жизнь, как он позвал ее на заранее объявленный бал-маскарад в Зубовском особняке (Исаакиевская площадь, 5). Бал в голодном и холодном городе?! «Вспоминаю, – пишет она спустя семьдесят лет, – как среди костюмированных появился Осип Мандельштам, одетый “под Пушкина” – в цветном фраке с жабо, в парике с баками и в цилиндре… В тот же вечер в одной из переполненных гостиных я увидела Мандельштама, который, стоя на мраморном подоконнике громадного зеркального окна, выходившего на классическую петербургскую площадь, в белую ночь читал свои стихи… Свет был полупригашен, портьеры раздвинуты, и вся его фигура в этом маскарадном костюме, на этом фоне, как на гравюре, осталась незабываемой…» Вот за это, за эти мгновения торжества поэзии, ему, думаю, и прощали все…
В Петрограде, не без помощи Горького, его поселили в Доме искусств. В том легендарном здании на Невском, о котором ныне не статьи – толстые книги пишут. Мандельштаму отвели тут «кособокую комнату о семи углах», где он сейчас же вынул из своего клеенчатого сака рукопись «Tristia», тщательно обтер ее и сунул в комод. Сак запихал под кровать, руки вымыл и вытер клетчатым шарфом (был чистоплотен, мытье рук станет у него чуть ли не манией) и отправился за первым пайком. Кушать, правда, было не только нечего – нечем, зубов к тому времени почти не осталось. Их заменяли золотые лопаточки, «притаившиеся за довольно длинной верхней губой», из-за которых его и прозвали Златозуб. Но жил тут беспечно – мог выскочить в коридор с криком: «Помогите, помогите! Я не умею затопить печку. Я не кочегар, не истопник!..» Жил как в коммуне. Мог запросто взять чужое (мыло, например) и легко забыть что-нибудь свое. Михаил Слонимский, тогда молодой писатель, вспоминал, что Мандельштам, зайдя к нему по-соседски, забыл у него хлеб и крупу. Слонимский честно берег несколько дней паек соседа, пока хлеб не начал плесневеть; тогда он сам отыскал Мандельштама. А тот, сообразив в чем дело, безумно удивился: «Я не сомневался, что вы сразу все съели…» Видимо, так поступил бы и сам. А пайки, кстати, и ордера на одежду раздавал Горький. Когда Союз поэтов запросил у Буревестника штаны и свитер для Мандельштама, то свитер Горький выдал, а штаны из списка вычеркнул: «Обойдется». «Гумилев отдал ему свои – запасные, – пишет Надежда Мандельштам, – и он клялся мне, что в брюках Гумилева чувствовал себя необыкновенно сильным и мужественным».