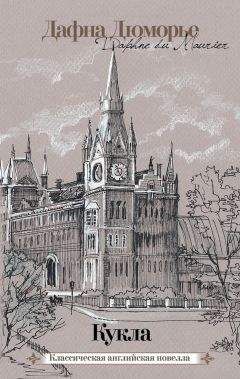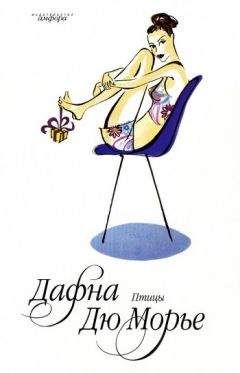Дафна дю Морье - Козел отпущения
Бланш повернулась и вошла в дом. Мари-Ноэль посмотрела на меня.
— Иди, иди, — сказал я, — делай, что говорит тетя. Я тебя не оставлю.
Она улыбнулась. Странно, ее улыбка что-то напомнила мне, но что? И тут я вспомнил: точно такую же улыбку я видел всего десять минут назад в комнате наверху. Обе отражали одно: избавление от боли… Мари-Ноэль побежала в дом следом за Бланш.
Со стороны деревни подъехала какая-то машина. Когда она поворачивала к въезду под аркой, фары, должно быть, выхватили меня из темноты, так как машина — это был наш «рено» — остановилась и оттуда вышел Гастон. Вид у него был сконфуженный, лицо покраснело.
— Я не знал, что господин граф спустился, — сказал он. — Простите, но так лило, что я отвез обратно в verrerie мадам Ив и еще несколько пожилых людей, которые отмечали сегодняшний день вместе с нами. Я не спросил у вас разрешения. Не хотел беспокоить вас.
— Все в порядке, — сказал я. — Я рад, что вы отвезли их домой.
Гастон подошел ближе, всмотрелся в мое лицо.
— У вас расстроенный вид, господин граф. Что-нибудь случилось? Вам все еще нездоровится?
— Нет, — сказал я, — просто… сочетание обстоятельств. — Я махнул рукой на замок. Мне было безразлично, что он подумает. Я не был уверен даже в том, что думаю сам.
— Простите меня, — мягко сказал Гастон, словно желая меня подбодрить, хотя в голосе его была неуверенность. — Я не хочу быть нескромным, но… не желает ли господин граф, чтобы я отвез его в Виллар?
Я молчал, не понимая, о чем он говорит, надеясь, что следующие его слова прояснят смысл этой фразы.
— У вас был тяжелый день, господин граф, — продолжал он. — Здесь, в замке, все думают, что вы спите. Если я отвезу вас сейчас в Виллар, вы проведете несколько часов в удобстве и покое, а рано утром я заеду за вами туда. Я предлагаю это только потому, что сейчас вы не можете сами вести машину.
Он деликатно отвел глаза, будто просил прощения, и я тут же понял, что в том смятенном состоянии ума и духа, в котором я находился, это было настолько идеальным решением, что Гастон и не ожидал от меня никаких слов, даже слов согласия.
Он вернулся к машине, дал задний ход и подвел ее к террасе. Открыв дверцу, я забрался внутрь, и в то время, как под шум дождя, барабанящего по ветровому стеклу, мы молча ехали во тьме по направлению к Виллару, я подумал, что во мне не осталось и частицы того меня, который сменил свое «я» на чужое в номере гостиницы в Ле-Мане. Все мои поступки, инстинкты, слабости не были больше мои — так чувствовать и поступать мог только Жан де Ге.
Глава 18
В первую секунду я решил, что это плещет дождь, извергающийся из зева горгульи, унося с собой мусор, скопившийся за год, что сама горгулья с плоскими остроконечными ушами трещит у основания, камень крошится и рассыпается под напором воды. Затем кошмар рассеялся, я увидел, что наступил день и шумит вода, пущенная Белой в ванну. Ночной мрак исчез, а с ним и дождь, раннее утреннее солнце золотило крыши.
Я откинулся назад, заложив руку за голову. В открытое окно мне были видны неровные очертания крыш, желтая от лишайника черепица, покосившиеся печные трубы, слуховые окна, а позади — возвышающийся над городком желобчатый шпиль церкви. Снизу, с улицы, доносились первые звуки пробуждающегося дня: распахивались ставни, на мостовую с шумом лилась вода из шланга, слышались чьи-то шаги, чей-то свист — в неторопливом рыночном городке начиналась очередная неделя. Журчание наполняющей ванну воды приятно сливалось с бодрыми уличными звуками, мной владела ленивая умиротворенность, я знал, что рядом, так близко, что стоит мне крикнуть — и она тут же закроет кран и подойдет ко мне, находится та, кто никогда не задает вопросов, кто принимает меня таким, какой я есть, участником ее жизни от случая к случаю, в зависимости от времени и настроения — моего, не ее. Так взрослый человек откладывает в сторону свое занятие, чтобы поиграть с любимым ребенком. Моя рука, не тронутая никем накануне, была заново обработана и перевязана, шелковая повязка приятно холодила кожу; чувство, что за мной ухаживают, проявляют заботу и ничего от меня не требуют, не заявляют на меня никаких прав, было непривычно как для старого моего «я», так и для нового. Мне не хотелось расставаться с этим чувством, я хотел смаковать это новое для меня лакомство как можно дольше.
Я слышал, как Бела распахнула ставни в комнате напротив, как, болтая с ними, вынесла на балкон клетку с птицами, чей щебет звучал вариацией на тему бегущей воды. Я позвал ее, и она тут же пришла ко мне — на ней был пеньюар и домашние туфли — и, наклонясь, поцеловала меня с безмятежностью человека, у которого ты под присмотром, чьи рассудок и сердце ничто не тревожит.
— Ты хорошо спал? — спросила она.
— Да, — ответил я.
Какое наслаждение было касаться ее рук и плеч, голых под свободно ниспадающими рукавами, вдыхать аромат абрикосов, идущий от ее тела, и знать, что благодаря ей я вступил в иное измерение, которое не было частью первого мира или второго, но каким-то неведомым образом, как футляр китайской головоломки, заключало в себе их оба.
— Я сейчас сварю тебе кофе, — сказала Бела, — а как только придет Винсент, пошлю его в булочную в том конце улицы за рогаликами. Рука не болит? Прекрасно. Я перевяжу ее опять перед тем, как ты уедешь.
И она исчезла, а я вновь погрузился в сладкий дремотный покой.
У Белы было одно прекрасное свойство — ее ничто не могло застать врасплох. Вчера вечером, когда Гастон высадил меня у городских ворот и я, перейдя канал по пешеходному мостику, постучал в закрытое ставнем окно, она немедленно его открыла, без испуга, без удивления. Заметив мою забинтованную руку и то, что я едва держусь на ногах, она молча указала мне на то глубокое кресло, где я сидел в первый раз, и тут же принесла мне вина. Она не задала ни одного вопроса, и первым молчание нарушил я; пошарив в кармане, вытащил ампулу с отбитым кончиком и бросил в мусорную корзину.
— Я когда-нибудь говорил тебе, что моя мать — морфинистка? — спросил я.
— Нет, — ответила Бела, — но я догадывалась.
— Почему?
Она колебалась.
— По некоторым намекам, которые ты ронял время от времени. Я не хотела вмешиваться. Это меня не касается.
Голос ее был деловой, спокойный, словно она хотела предупредить меня: все, что Жан де Ге сочтет нужным сообщить ей, она примет без похвалы или порицания и свое мнение оставит при себе.
— Если бы ты узнала, — сказал я, — что я снабжал ее морфием, привозил его из Парижа в подарок, как я привез тебе духи, ты бы очень меня осудила?
— Я ни за что не осуждаю тебя, Жан, — ответила она. — Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы меня мог оттолкнуть хоть какой-нибудь твой поступок.