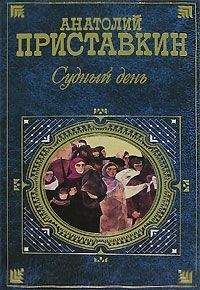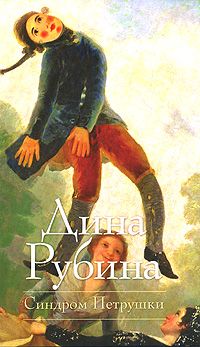Анатолий Приставкин - Ночевала тучка золотая
Все тягостно переплелось, у каждого своя правда, исключающая чужую. Нет единой, всем одинаково необходимой правды. К ней-то идет А. Приставкин, вовлекая и нас в неторопливое, подспудное движение мысли. Так не согласующееся с полной драматических происшествий, хулиганских выходок, утрат и обретений жизнью колонистов. Несмотря на голод и страх, несмотря на привычку и необходимость обманывать, изворачиваться, воровать, они остаются детьми, одновременно жадными и щедрыми, трогательно наивными и не по годам умудренными. Взаимоисключающие свойства не уравновешиваются, находясь в постоянном противоречии, и если взрослые в повести более или менее определенны, у каждого своя краска, позволяющая составить о нем твердое представление (пожалуй, слишком твердое и слишком быстро), с детьми так не получается. Они непредугадываемы, как и события, свидетелями, участниками которых им суждено стать.
Это совсем не те интригующие «вдруг», что чаще всего придают увлекательность повествованию о детских затеях и шалостях, не романтика блатного сообщества малолеток, лихой мордобой и непременное торжество юного Робин Гуда. Это трагедия ребенка, делающего свои первые шаги, не понимая, что творится вокруг, почему невинно гибнут люди — близкие ему и далекие. Далекие могут стать близкими, а близкие, вроде директора подмосковного детдома, — отъявленными врагами. А. Приставкин приводит подлинную фамилию жулика-директора, запомнившуюся ему на всю жизнь. Подлинные фамилии носят и колонисты. Писатель не отказывается от слабой надежды: кто-нибудь уцелел, откликнется… В повести он един в двух лицах — автор, составляющий мучительную картину, и — колонист, один из Кузьменышей, собственным бесприютным детством оплативший право на местоимение «мы».
«Мы шли, сбившись в молчаливую плотную массу. Еще наши глаза, не привыкшие к черной ночи, хранили на своей сетчатке красные блики пламени. С непривычки могло показаться, что повсюду из черноты выглядывают языки огня. Даже ступать мы старались осторожно, чтобы не греметь обувью. Мы затаили дыхание, старались не кашлять, не чихать».
Сделав выписку, я подумал: право на «мы» обернулось для А. Приставкина обязанностью. «Молчаливая плотная масса» словно бы делегировала его в грядущие десятилетия: пусть поведает о ней, об этой ночи, озаренной пламенем подожженного дома и пылающего «студебеккера». Не потому лишь, что он уцелел (до сих пор оставались тщетными его попытки отыскать хотя бы одного детдомовца; на сотню запросов не поступило ни одного ответа) и сохранил кровоточащую память. Понадобились вполне определенные, годами шлифовавшиеся писательские и человеческие свойства, определенный строй мыслей, когда чужая правда (поджог совершили чеченцы, которые скрывались в горах) вызывает не слепую ярость, но сосредоточенность взгляда, желание понять и ее. Это нелегко и доступно далеко не всякому даже одаренному художнику. Куда проще дать волю мстительности, счесть виновником твоей беды того, кто сам оказался жертвой. Его беды — не твоя печаль, тебе хватает своих собственных бед и печалей.
Но именно такую, будто напрашивающуюся, житейски довольно распространенную позицию А. Приставкин отвергает с категоричностью, делающей ему честь.
«Это потом тот, кто уцелеет, взрослым переживет все снова: ржание лошадей, чужие гортанные голоса, взрывы, горящую посреди пустынной станицы машину и прохождение через чужую ночь».
Давний ночной страх возбуждает новые, теперешние опасения:
«Возможно ли извлечь из себя, сидя в удобной московской квартире, то ощущение беспросветного ужаса, который был тем сильнее, чем больше нас было! Он умножился будто на страх каждого из нас, мы были вместе, но страх-то был у каждого свой, личный! Берущий за горло!»
Дальше в отрывке сказано:
«И конечно, мы были на грани крика! Мы молчали, но если бы кто-то из нас вдруг закричал, завыл, как воет оцепленный флажками волк, то завыли бы и закричали все, и тогда мы могли бы уж точно сойти с ума…» На грани крика, на грани безумия… Грань эта будет переступлена. Ночной кошмар, гибель «шоферицы Веры» — еще не крайняя точка, где человеку — взрослому ли, малолетнему — удается сохранить трезвый взгляд. Кузьменышей ожидает такое, о чем невозможно догадаться в начале повести, с первых страниц не обещавшей легкого, беспечального чтения. Какая тут легкость, когда подмосковный детдом живет одной исступленной думой «вдохнуть, не грудью, животом вдохнуть опьяняющий, дурманящий хлебный запах». Даже о хлебных крошках не мечталось. За корочку хлеба малыши продавались в рабство к сильным уркам на месяц, два. И Кузьменыши продавались. Только всегда вдвоем. Одиннадцатилетние близнецы неразлучны. Неразлучность помогала им выжить, сносить все напасти, сообща мошенничать, воровать, устраивать проделки, которые одному не по плечу. Они всегда вместе — четыре руки, четыре ноги, две головы — и до того похожи: никто не отличит — Колька это или Сашка. Близнецы. искусно всех морочили, и даже когда не было необходимости, один выдавал себя за другого. Обманывая, делались увереннее: выручая друг друга, было легче уцелеть в гибельных обстоятельствах.
Об этих обстоятельствах А. Приставкин говорит с обезоруживаюшей непосредственностью. Годы не избавили от изумления перед чудом; как же я все-таки уцелел? Все сходилось к одному: крышка.
Не вдаваясь в рациональные объяснения, он, только что рассказывавший о нравах, стараясь сберечь их подлинность, о блатной музыке, круто перестраивается на метафорический лад, возможный, когда издали всматриваешься в беспросветное прошлое. «Летим в неизвестность, как семена по пустыне. По военной — по пустыне — надо сказать. Где-то, где-нибудь, в щелочке, трещинке, ямке случайной застрянем… А прольется ласка да внимание — живой водой прорастем.
Чахлой веточкой прорастем, былинкой, крошечной бесцветной ниточкой картофельной, да ведь и спросу-то нет. Можем и не прорасти, а навсегда кануть в неизвестность. И тоже никто не спросит. Нет, значит, не было. Значит, не надо». После наперченного блатного фольклора — исконно сказочная, прозрачная «живая вода», «чахлая веточка», «былинка». И никакой искусственности перепада, когда уши закладывает, как в самолете, угодившем в воздушную яму, ни малейшей нарочитости.
Никому не нужными семенами летят через войну, через разрушенные земли Кузьменыши. Они умеют выйти если и не сухими из воды, то хотя бы не пойти ко дну, не пустить пузыри. Родство по крови переходит у них в редкое, никем, кроме Регины Петровны, не замечаемое родство душ. Да и умная, сердечная Регина Петровна — вдова летчика с двумя малышами, тоже занесенная ветром войны в край, откуда изгнаны чеченцы, — понимает братьев не до конца. Они, почитая среди взрослых одну лишь ее, готовые ради нее пойти на что угодно, даже поделиться своей заначкой, до конца не откроются и ей. Скрытность стала самой натурой. Близнецы откровенны только друг с другом. Откровенность не в излияниях и объяснениях, но в том внутреннем единении, которое реально тогда лишь, когда один настолько дополняет второго, что они по отдельности не мыслят, не представляют собственного существования. Вопрос такой не возникает, он за пределами предположений.