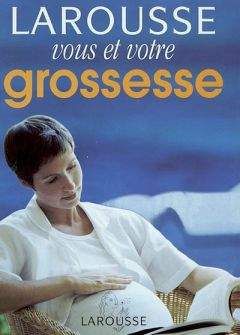Халед Хоссейни - Тысяча сияющих солнц
По утрам Лейла вместе с Тариком обходит комнаты. На поясе у него связка ключей, из кармана торчит пластиковая бутылка с мылом для окон. В ведре, которое несет Лейла, тряпки, дезинфицирующие средства, щетка для туалета и полироль для мебели. У Азизы в одной руке швабра, в другой — набитая фасолью кукла, которую сделала для нее Мариам. Следом тащится мрачный Залмай.
Лейла пылесосит, заправляет постели, вытирает пыль. Тарик моет ванны и раковины, драит унитазы, протирает шваброй линолеум, меняет полотенца, раскладывает по полкам крошечные бутылочки с шампунем и куски пахнущего миндалем мыла. Азизе нравится мыть и вытирать окна. Кукла всегда при ней.
Лейла рассказала Азизе про Тарика через несколько дней после ники.
Удивительно, как между отцом и дочкой все сразу сложилось. Лейлу порой даже испуг брал. Азиза договаривала фразы за Тарика, а отец — за нее. Тарик только собирается попросить подать ему что-то, а Азиза уже тут как тут. За столом они таинственно улыбались друг другу, будто жили вместе с незапамятных времен.
Пока мать рассказывала, Азиза задумчиво разглядывала собственные руки.
— Мне он нравится, — вымолвила она, помолчав.
— Он любит тебя.
— Он так сказал?
— Ему и говорить не надо. И так ясно.
— Расскажи мне все, мама. Я хочу знать.
И Лейла поведала ей все.
— Твой отец хороший человек. Самый лучший.
— А если он уйдет от нас?
— Такого не случится никогда. Посмотри на меня. Отец никогда не обидит тебя и никогда нас не бросит.
Лицо Азизы осветилось такой радостью, что у Лейлы сжалось сердце.
Тарик купил Залмаю лошадку-качалку, сделал ему тележку. В тюрьме он научился вырезать из бумаги зверей и теперь сворачивал, перегибал и разрезал бесчисленные листы бумаги, из которых получались львы, кенгуру, скаковые жеребцы и сказочные птицы.
Но если только Залмаю казалось, что работа тянется слишком долго, он бесцеремонно вырывал надрезанный листок у Тарика из рук.
— Ты осел! — кричал ребенок. — Не нужны мне твои игрушки!
— Залмай, — укоризненно вздыхала Лейла.
— Ничего, — успокаивал жену Тарик. — Это ничего. Пусть его.
— Ты не мой Баба-джан! Мой настоящий Баба-джан уехал далеко, но он вернется и побьет тебя! А убежать ты не сможешь, ведь у отца две ноги, а у тебя только одна.
Перед сном Лейла крепко обнимает Залмая, и они вместе произносят молитву против Бабалу. На вопросы она неизменно отвечает, что Баба-джан уехал и неизвестно когда вернется. Лейла ненавидит себя за это. Но она знает: лгать придется долго. Залмай подрастет, научится сам завязывать шнурки на ботинках, пойдет в школу, а ложь никуда не денется. Правда, со временем сын все реже будет спрашивать про отца, перестанет кричать «Папа!» вслед пожилым сутулым прохожим, и в один прекрасный день, глядя на какой-нибудь заснеженный склон, с удивлением обнаружит, что боль утихла, рана зарубцевалась, образ Рашида затуманился, отошел на задний план, перестал терзать душу.
Лейле хорошо в Мури. Но счастье ее не безоблачно. За него приходится платить.
В выходные дни Тарик с Лейлой и детьми выбираются в город, они гуляют по улице Мэлл, где полно лавочек, торгующих всякими безделушками, и где расположена настоящая англиканская церковь, выстроенная в середине девятнадцатого века. Тарик покупает у уличных торговцев пряные кебабы чапли. Густая толпа заполняет улицу: местные жители, европейцы со своими сотовыми телефонами и цифровыми камерами, пенджабцы, бежавшие в горы от жары.
Они садятся в автобус и едут в Кашмир-Пойнт, оттуда открывается прекрасный вид на долину реки Джелум, на поросшие елями склоны и на горы, покрытые густыми лесами, в которых, говорят, до сих пор водятся обезьяны. Бывают они и в Натиагали[58], местечке километрах в тридцати от Мури. Держась за руки, гуляют по осененной кленами дороге, осматривают дворец губернатора, посещают старинное британское кладбище.
Лейла ловит себя на том, что, попав на оживленную улицу, частенько глядит в стекла витрин, высматривая отражения своих близких. Муж, жена, дочка и сын — на первый взгляд самая обычная семья. Какие тут могут быть тайны, горести и разочарования?
У Азизы по ночам бывают кошмары, от которых она с криком пробуждается. Лейла садится рядом, вытирает ей лицо, успокаивает, напевает песенку.
У Лейлы свои сны. В них она обязательно попадает в Кабул, в дом Рашида, проходит через переднюю, поднимается по лестнице. Лейла всегда одна, но из-за двери доносится шипение утюга, шуршание складываемого белья, женский голос мурлычет старинные гератские песни.
Лейла открывает дверь — а в комнате пусто.
Сны потрясают Лейлу, она просыпается, обливаясь слезами, с опустошенной душой.
2
Сентябрь. Воскресенье.
Лейла укладывает Залмая спать. Мальчик простудился, чихает и кашляет.
В дом врывается Тарик:
— Ты слышала? Убит Ахмад Шах-Масуд!
— Да ты что?
— У него брали интервью два журналиста, выдававшие себя за бельгийцев марокканского происхождения. Пока они беседовали, взорвалась спрятанная в видеокамере бомба. Масуда и одного из журналистов убило на месте. Второго застрелили при попытке к бегству. Говорят, убийц подослала Аль-Каида.
Лейле вспоминается плакат из маминой спальни. На нем у Масуда слегка приподнята бровь, лицо сосредоточенно, словно он кого-то внимательно слушает. Мама была благодарна Масуду за его молитву у могилы Ахмада и Ноора, рассказывала об этом всем и каждому. Даже когда разные группировки схватились между собой в жестоких боях, мама никогда не обвиняла Масуда. «Он хороший человек, — повторяла она. — Он хочет мира, хочет возродить Афганистан. Но ему не дают». Для мамы Масуд всегда оставался Львом Панджшера, вопреки всем ужасам войны и разрушениям, которые принесла междуусобица Кабулу.
У Лейлы свой счет. Кончина Масуда не доставила ей радости, но она слишком хорошо помнит, как взлетали на воздух соседские дома, как откапывали трупы из-под развалин, как оторванные руки и ноги погибших детей находили на крышах, на ветках деревьев уже после похорон, много дней спустя. Она помнит, как мама вздрагивала от ужаса при каждом очередном взрыве. Она рада была бы забыть окровавленный шмат мяса в обрывке футболки с изображениями башен — все, что осталось от Баби.
— Состоятся похороны, — говорит Тарик. — Это точно. Говорят, в Равалпинди[59]. Вот народу-то соберется!
Уже почти уснувший Залмай садится и трет кулачками глаза.