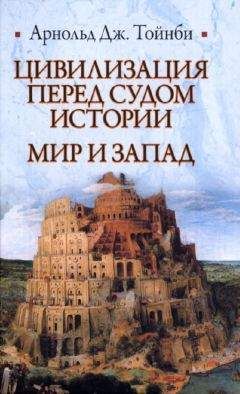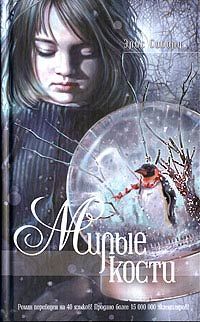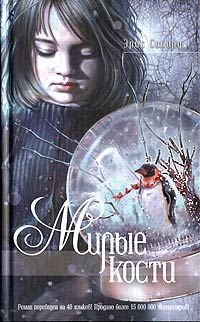Элис Сиболд - Милые кости
— Что с ним?
— Кем вы приходитесь мистеру Сэлмону?
Она выдавила фразу, которую не произносила уже несколько лет:
— Я его жена.
— У него инфаркт.
Опустившись на пробково-каучуковый коврик, лежащий на полу за стойкой, она сидела без движения, пока не пришел дежурный распорядитель. Тогда у нее опять вырвались чужие слова: «муж», «инфаркт».
Мама очнулась в фургоне уборщика — этот тихий человечек, почти никогда не выходивший за ворота, мчал ее в международный аэропорт Сан-Франциско.
Она купила билет на ближайший рейс; лететь предстояло с пересадкой в Чикаго. Когда самолет, набрав высоту, нырнул в облака, она стала прислушиваться к перезвону музыкальных сигналов, которые подсказывали экипажу, что делать дальше и к чему готовиться. По салону, дребезжа, проехала тележка с напитками. У мамы перед глазами были не кресла самолета, а холодная каменная арка винного заводика, за которой хранились пустые бочки, только вместо посетителей, которые часто спасались в этой прохладе от палящего солнца, там сидел мой отец, протягивая ей разбитую чашку веджвудского фарфора. В аэропорту Чикаго, за два часа ожидания, она кое-как взяла себя в руки, купила зубную щетку и пачку сигарет, а потом опять позвонила в приемный покой и попросила, чтобы к телефону позвали бабушку Линн.
— Мама, я уже в Чикаго, — сообщила она. — Скоро буду.
— Абигайль, слава богу! — воскликнула бабушка. — Я еще раз звонила тебе на работу, мне сказали, ты уехала.
— Как он там?
— Зовет тебя.
— Дети с тобой?
— Со мной. Сэмюел тоже здесь. Я как раз собиралась тебя порадовать: Сэмюел сделал Линдси предложение.
— Чудесно, — сказала мама.
— Абигайль…
— Да? — Моей маме нечасто доводилось слышать робкие нотки в материнском голосе.
— Джек все время зовет Сюзи.
За порогом аэровокзала «О'Хэйр» моя мама закурила и остановилась, пропуская стайку школьников с рюкзаками и музыкальными инструментами. На каждом футляре желтела именная бирка с иллинойской надпечаткой: «Край патриотов».
Сырой, промозглый воздух Чикаго смешивался с выхлопными газами припаркованных в два ряда такси; у стоянки было нечем дышать.
Мама в рекордное время докурила сигарету и тут же зажгла следующую. После каждой затяжки она попеременно грела руки на груди. У нее даже не было возможности переодеться: она прилетела в линялых, но чистых джинсах и бледно-оранжевой футболке с вышитым на кармашке названием: «Винный завод Крузо». Ее кожу покрывал легкий загар, отчего голубые глаза стали еще ярче. Стянутые резинкой волосы струились по спине. Мне была видна легкая проседь у нее на висках и за ушами.
Она держалась за две колбы песочных часов и сама не понимала, как такое может быть. Время, прожитое в одиночестве, истекало; за счет силы тяготения его вытеснял тот час, когда старые узы влекут в обратную сторону. И они натянулись с удвоенной мощью. Брак. Недуг.
Не отходя от аэровокзала, она вытащила из заднего кармана джинсов мужской бумажник, который купила в первые дни работы на винодельне, чтобы не оставлять без присмотра сумочку. Щелчком бросила окурок в сторону такси и отделилась от стены, чтобы присесть на бетонный парапет, охранявший плашку жухлой травы с унылым деревцем посредине.
В бумажнике хранились фотографии, которые она разглядывала каждый день. Один снимок лежал особняком, в кожаном отделении для кредиток, оборотной стороной кверху. То самое изображение, что хранилось в полиции, приобщенное к делу; то самое, что Рэй заложил в сборник индийских стихов, принадлежавший его матери. Это была моя школьная фотография, которая попала на газетные полосы и листовки с объявлениями о розыске, а с ними в каждый почтовый ящик.
По прошествии восьми лет этот снимок даже для моей мамы примелькался, как рекламный щит. Стал чуть ли не надгробным памятником. Вечный румянец, вечно голубые глаза.
Достав эту фотографию, она повернула ее лицом к себе и слегка согнула в ладони. Маму огорчало, что на снимке не видны мои зубы — ее всегда умиляли их округлые, чуть зазубренные краешки. В тот год я пообещала, что сделаю рот до ушей; когда буду сниматься для школьного ежегодника, но перед объективом задергалась и еле растянула сжатые губы в подобии улыбки. По трансляции объявили ее рейс. Она поднялась с парапета, обернулась и поглядела на тоненькое, из последних сил бьющееся за жизнь деревце. Моя школьная фотография опустилась нижним краем на землю, а верхним прислонилась к стволу-прутику. Через автоматически открывающиеся двери мама прошла на посадку.
Во время рейса на Филадельфию она сидела в одиночестве, на среднем месте в ряду из трех кресел. Ей невольно думалось, что на соседних местах с ней, как с матерью, могли бы лететь дети. С одного боку — Линдси. С другого — Бакли. По определению, она, естественно, оставалась матерью, но в какой-то момент перестала ею быть. Отгородившись от их жизни чуть ли не на десять лет, она больше не могла претендовать на право и гордость материнства. Ей давно стало ясно, что быть матерью — это призвание, мечта многих юных девушек. Но мою маму такая мечта обошла стороной, и судьба послала ей самое страшное, — самое жестокое наказание за то, что я не была для нее желанной.
На протяжении всего полета я смотрела во все глаза и сквозь облака загадывала для нее освобождение. Когда она представляла, что ждет впереди, ее душил ужас, но в этой тяжести зрело целительное снадобье. Стюардесса принесла подушечку в синем чехле, и мама ненадолго забылась сном.
Пока самолет, гася скорость, бежал по взлетно-посадочной полосе, мама силилась вспомнить, как ее занесло в Филадельфию и какой сейчас год. Она торопливо перебирала в памяти готовые фразы — для детей, для матери, для Джека. Но с наступлением тишины и неподвижности все мысли сосредоточились на одном: как спуститься на землю.
Она с трудом узнала родную дочь, ожидавшую у подножья нескончаемого пандуса. За прошедшие годы Линдси стала угловатой и худой, ни грамма лишнего веса. Рядом стоял юноша — ее точный мужской портрет: брат-близнец, да и только. Чуть выше ростом, чуть шире в плечах. Сэмюел. Моя мама так пристально всматривалась в этих двоих, так храбрилась под их жесткими взглядами, что вначале не заметила щекастого мальчугана, который примостился в сторонке, на подлокотнике кресла.
Его она увидела позже — когда ступила на пандус, когда прошло первое оцепенение, когда их всех отпустила вязкая желатиновая топь.
Мама шла по ковровой дорожке среди рокота объявлений и мелькания радостных лиц. Но при виде сына ее внезапно засосала воронка времени. Год тысяча девятьсот сорок четвертый. Лагерь «Уиннекукка». Девчонка двенадцати лет: пухлые щеки, толстые ляжки. Все то, что, по счастью, не унаследовали ее дочери, досталось сыну. Как долго ее не было рядом. Сколь многое безвозвратно упущено.