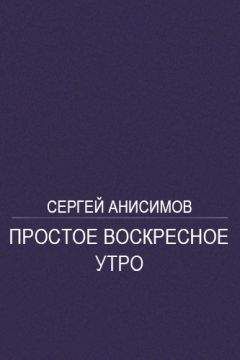Вионор Меретуков - Дважды войти в одну реку
— Да вы просто ревизионист!
— А вы дикарь!
Оба смотрят друг на друга весьма враждебно.
Некоторое время молчат.
Второй священник наливает себе и оппоненту. Спрашивает:
— Скажите по секрету, брат мой, а вы сами-то верите в Бога?
Первый священник степенно выпивает, заедает маринованным грибком и ненадолго задумывается.
— Если честно, то не очень, а если уж быть совсем честным, то вовсе не верю, — говорит он и дружелюбно подмигивает коллеге. — Но люблю, знаете, поспорить на досуге о Боге, вечности и прочей чепуховине… Кстати, это не мешает мне нести людям Христову веру!
— ???
— Да, да, — священник вздыхает, — должен же кто-то делать эту тяжелую и хорошо оплачиваемую работу".
"Иногда кажется, что до заветной цели остался один шаг, стоит лишь в последний раз напрячь все силы ума и души, и вот она долгожданная снежная вершина, дивно сверкающая на солнце, видная на тысячи километров вокруг, но… шаг делает кто-то другой, а ты остаешься с носом. И винить никого нельзя. Таков удел пустого и пылкого мечтателя, которого Фортуна удостоила лишь мимолетным взглядом".
"Корреспондент юбиляру:
— Как вы себя чувствуете в свои семьдесят?
— Да как вам сказать…
— Вижу, вас что-то гложет.
— Да-да, гложет, это вы верно подметили, именно гложет.
— И давно гложет?
— Да вот уж тридцать лет гложет: с того самого дня, когда мне исполнилось сорок. Эта цифра так меня ошеломила, что я до сих пор пребываю в состоянии ошеломления, никак в себя прийти не могу. И меня всё это гложет, гложет, гложет и гложет…"
"Как известно, Довлатов писал простыми предложениями.
При его чувстве слова это давало блестящий эффект.
Написанное им мгновенно доходит до сознания читателя.
Но Довлатову этого показалось мало.
Он принял решение, — на первый взгляд выглядевшее формальным, а на самом деле революционное, — писать так, чтобы в предложении не было слов, которые начинались бы на одну и ту же букву.
Казалось, это должно было сузить его возможности. На деле же привело к парадоксальным результатам.
Ограничив себя в одном твёрдом пункте, он обрел свободу в другом, в возможности виртуозного выбора, что сделало его прозу отточенной, почти совершенной в стилистическом отношении.
Писатель Шелестов пошел еще дальше. Следуя, как ему казалось, путём Довлатова, он пренебрег — теперь уже из формальных соображений — буквой "а", как известно, наиболее употребляемой гласной в русском языке.
Сначала всё шло хорошо. Слов хватало, да и терпения копаться в словарях ему было не занимать, сказывался опыт бывшего библиотечного работника.
Но затем он всё чаще стал упираться в глухую стену. Оказалось, что возможности языка не беспредельны. Особенно, если к языку подходить не как к музыкальному инструменту, а как к инструменту плотницкому.
Постигнув это, Шелестов вовремя одумался и вернулся к работе в библиотеке".
"Ночью, беседа с самим собой.
— А ты вообще-то уверен, что ты писатель? Я знаю твой творческий путь. Сначала, в молодости, мечтая о славе, ты изводил себя сомнениями: можешь или не можешь ты написать что-нибудь более или менее приличное хотя бы по объему.
Оказалось, можешь.
И тут с тобой произошла метаморфоза. Ты незаметно для себя, написав один роман, раздулся от важности.
Сомнения куда-то испарились, ты уже ставил себя в ряд если не с великими, то уж точно с выдающимися, свысока поплевывая на головы собратьев по перу, которые, по твоему мнению, лишь понапрасну бременят землю".
"Иногда казалось, забрел в такой бред несусветный, такое нафантазировал, что самому не по себе становилось…
А оно, написанное, "отлежавшись", освоившись во времени, потом неожиданно начинало жить самостоятельной, вполне убедительной жизнью. И воспринималось уже как нечто бывшее в действительности, что невозможно ни переделать, ни выбросить. Как будто, так и должно быть, и другого — быть не должно и быть не может".
Лев Толстой, понимаешь, какой-то, с неудовольствием подумал Раф.
"Сейчас любой, кто умеет более или менее складно на бумаге записывать всё, что ему взбредает в голову, считает себя писателем.
Посмотрим, как писали те, кто знал, как это делается.
"Гул сигнального рельса медленно канул в просторном октябрьском небе. Донесся звук пилорамы. За деревьями, громыхая, прошел лесовоз". Это Довлатов.
Так может написать только большой писатель. Ничего лишнего, и перед глазами печальная картина бесприютной осени. Тоска такая, что повеситься хочется.
Читателю с помощью простых слов передано настроение героя. "Вдруг я увидел мир как единое целое. Всё происходило одновременно. Всё совершалось на моих глазах…" Проще не придумаешь. Но за этими простыми словами довлатовская философия жизни и осознание человеком его места в мире.
О значении краткости сказано Чеховым, которого Довлатов почитал более других.
Довлатов в высшей степени современен. Впрочем, — как и его великий предшественник, остающийся и сто лет спустя после смерти одним из наиболее читаемых на Руси писателей.
Довлатов чувствовал стремительный бег времени. Он дорожил временем. Вот откуда его краткость и умение выжать из слова всё, что в нем кроется.
Веллеру так не написать никогда. Даже если он от натуги обосрётся.
Но Веллер не сомневается, что без труда может затмить все, написанное Довлатовым. Веллер вообще не любит сомневаться. Это не в его правилах. В частности, он не сомневается в своем литературном даровании.
Он один знает, как надо. Это касается абсолютно всего. И Веллер настойчиво стремится убедить в этом читателя. В случаях с нетребовательной публикой это ему удается.
И еще одно замечание. Если Толстой и Солженицын перешли к нравоучениям под конец жизни, увенчав ее пустопорожними, нудными рацеями, то Веллер решил не тянуть и приступить к этому увлекательному занятию в самый разгар своей бурной просветительской деятельности. Он упивается своим сарказмом, "остроумием". Посмотрите, говорит он, как хорошо, складно и умно я пишу".
Готов подписаться под каждым словом! Как точно сказано! — подумал Раф. — Но я опять, уже в который раз, прицепился к Веллеру… Он, бедолага, неполноценен, его бы пожалеть, этого убогого, обделенного талантом, а я на него набросился. Хотя… Нет-нет, правильно я сделал, что на него напустился!
Таким, как Веллер, спуску давать нельзя. Потому-то я на него и набросился, что он не так уж и безобиден. У него трибуна, аудитория, его подпирают средства массовой информации. Тиражи его опусов огромны, он плодовит, как таракан, и он "кассовый".
Веллер защищен жирной спиной издателя. И потому он так воинствен, агрессивен. Он преспокойно гадит на того, кто уже не в силах — по известным причинам — ему ответить. Писать так, как писал Довлатов, я могу погонными метрами, говорит он. То, что делает Веллер в своем "Не ножике…", — нельзя назвать никак, как только подлостью, пасквилем. Это недостойное занятие — поливать грязью покойника. Даже для писателя даже такого невысокого уровня, как Веллер.
Мне за него неудобно, казалось бы, выглядит, как солидный человек, называет себя философом, а поступает, как говнюк.
Его так называемая проза — поток обвинений в адрес всего, что попадает в поле его зрения.
Он вся и всё бичует, обличает, обвиняет, приговаривает.
Иногда мне кажется, что его агрессия и неумение сомневаться — всё это от глубочайшей внутренней неуверенности. Или, если хотите, — комплекса Довлатова. Впрочем, я ничуть не лучше. Тоже ведь нападаю… Хотя бы на того же Веллера.
Кстати, как там у Достоевского?
Корова поедает траву.
Тигр пожирает корову.
А писатель пожирает и траву, и корову, и тигра.
Веллер же пожирает читателя…
Интересно, а кого пожираю я? Уж не Веллера ли?.."
"Беседа двух оптимистов.
— Я в отчаянии!
— Пустяки. Уныние или безысходность хуже. Отчаяние — это что-то вроде забродившего вина. А уныние — это когда это забродившее вино выливают в отхожее место.
— Нет, не согласен. Отчаяние — это городской автобус, заблудившийся в осеннем лесу.