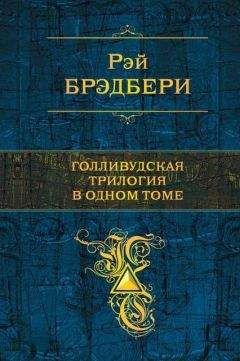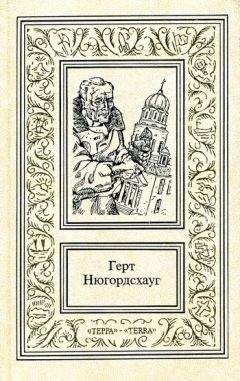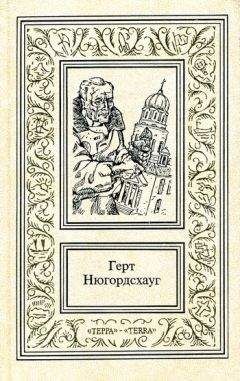Юрий Герт - Ночь предопределений
Для дома, в котором они находились, было свойственно странное лишь на первый взгляд смещение эпох и стилей: жаровня или деревянный ковшик с резной ручкой, которым хозяйка разливала молоко, могли служить ее бабке или прабабке, и рядом, на том же столе нежно просвечивали японские чашечки, наверное, недавно с магазинных полок, на подоконнике поблескивал прутиком антенны транзистор, у юркавшей в дверях девчушки к платьицу приколот был значок с волком из мультика «Ну, Заяц, погоди!» Эта смесь, совмещение несовместимого, придавало чувству, с которым Феликс присматривался к окружавшим вещам, особую остроту. Хотя сейчас его не занимала игра в контрасты. Транзистор и значок он великодушно жертвовал Сергею, в качестве деталей для возможного очерка (тот что-то уже, пожалуй, примеривал, прикидывал, беседуя с геологом и одновременно поводя вокруг по-охотничьи заострившимся взглядом). Феликса тянули вещи, проявившие свою устойчивость, достоинство, которое давало им силы даже потемнев, покрывшись трещинами, оставаться самими собой. Вычеркивая, как бы убирая из комнаты транзистор, фотографии в застекленных рамочках, стопку зачитанных детских книжек на тумбочке, он сохранял на прежнем месте инкрустированный костью кебеже, обитый раскрашенной жестью сундук с горкой стеганых одеял, ухват в углу, чуть не в потолок упершийся рогами, кумган на табуретке… Скользнув было дальше, он снова вернулся к кумгану, отлитому из какого-то светлого металла, явно фабричной работы. Он заменил его медным кувшином с вытянутым, благородно изогнутым носиком, и даже ощутил в руке приятную, тяжелящую запястье увесистость такого кувшина… Он подумал однако, что сто пятьдесят лет назад в ходу были также чугунные кумганы… Но на котором из них остановиться — это он отложил на потом.
Что наверняка уцелело с тех пор, подумал Феликс, это орнамент. Он прислушался к тому, о чем рассказывала Айгуль, стоя с Верой и Ритой у настенного коврика, расшитого аппликациями. В одних местах пальцы ее касались узора, напоминавшего бараньи рога, обращенные вниз, в других они загибались вверх, в третьих между ними вырастал на коротком стебле трилистник, похожий на раскинувший лепестки цветок. Разбирая орнамент по частям, Айгуль певуче произносила казахские наименования, лицо ее светилось. Но встретясь нечаянно взглядом с Феликсом, она тут же насупилась и отвернулась. Он усмехнулся.
Пожалуй, она одна еще помнила о вчерашнем. Гронский величественный и невозмутимый, в белой рубашке с темным потными полукружьями у подмышек, расположился на специально для него подставленной скамеечке и со вкусом почмокивая пил чай. Рядом, неловко поджав ноги, сидел Карцев. Глаза его были скрыты темными стеклами. Он рассеянно слушал Чуркина, который чувствовал себя тут совершенно своей тарелке. Он крутил рыжей бородой, поворачиваясь то Карцеву, то к Сергею, и толковал о разнице между гравиметрической и сейсмической разведкой, и дул чашку за чашкой сияя во все стороны безмятежной улыбкой. Сергей, позорно перепутав нефтяной фонтан с грифоном, внимал ему со стыдливым почтением.
Феликс заметил на хозяйке браслет — кованый, круглый, с обрубленными, почти вплотную смыкающимися концами. Такие браслеты давно стали редкостью. Феликсу хотелось разглядеть его поближе, особенно узор, вьющийся по тусклому серебру, но он не мог попросить старуху снять браслет или хотя бы приблизить к глазам ее руку — тонкую, хрупкую по виду косточку, обтянутую кожей, коричневой от солнца, от кизячного дыма или просто от прожитых лет.
Он этого не мог сделать, потому что тогда нужно было бы перебить разговор, который завязался между нею и Жаиком — что-то такое она обронила, он ответил… Она засмеялась и ответила тоже, и он в ответ что-то сказал и засмеялся.
И так они что-то коротко бросали друг другу и смеялись уже и слушая один другого и отвечая сквозь смех, и глаза у обои, светились и блестели среди веселых морщин. Жаик раскачивался из стороны в сторону и откидывался на подушку своим жирным, вздрагивающим от смеха телом, и в голосе старой женщины, где-то в глубине его, густой и хриплой, почти баритональной глубине, как в тоннеле, рождался вдруг колокольчик, его чистая, живая трель…
Среди слов, которыми они озорно перестреливались, Феликс ухватывал немногие.
— Она говорит: прихватите на обратном пути у меня овцу, отвезите в город, — улыбаясь перевел Феликсу Бек. — У неё там кто-то живёт, в городе… А он говорит: зачем овцу везти. Давай лучше на бешбармак ее пустим. А она говорит: да она худая. А он говорит: раз худая, что ж ее в город везти? А она говорит: так она ногу сломала. А он говорит, если ногу сломала, давай ее прирежем. А она: так овца больно худая… И опять все сначала.
Старые дети, думал Феликс, теперь уже и сам еле удерживаясь от смеха. Он смотрел на них, и старуха не казалась ему такой старой, как прежде. Что-то наверняка их связывало — давнее, молодое… Наверняка связывало.
Когда они попрощались и уже шли к своим машинам, Феликс спросил у Жаика о хозяйке — почему она одна, кто у нее есть, кроме девочки, видимо — внучки…
— Муж ее был чабаном, — сказал Жаик, — он много лет назад, в буран, замерз в степи. Из троих сыновей старший работает на железной дороге в Гурьеве, младший учится в Алма-Ате, а средний, Мурат, нефтяник, живет со своей семьей здесь поблизости, это его дочка Зульфия…
— Мурат?.. — переспросил Чуркин. — Это какой Мурат — Курмангожин?..
— А вы его знаете?
— Мурата?.. — Чуркин в досаде хлопнул себя по бедрам. — Что же вы раньше не сказали?.. Ведь мы и едем на ту самую буровую…
3Мы покинули Новопетровск и направились к горам Каратау. В степи приходится идти или ехать не столько, сколько хочется, а сколько можно, так как колодцы с водой встречаются очень редко. А остановиться можно только у колодца. Поэтому в первый день мы прошли 29 верст. Воды по дороге не было, и даже баранов, что обычно возле нее пасутся, мы нигде не видели. Встретили лишь несколько путешествующих киргизов, которые по обычаю приветствовали нас «салам-алейкум» и расспрашивали о цели путешествия…
Бронислав Залеский.
Два путешествия по киргизским степям.
4Подхватив Феликса под руку, Чуркин увлек его к себе в машину.
— Это, позвольте спросить, на какую еще… буровую? — проворчал Гронский, усаживаясь на переднем сидении, рядом с шофером.
— На пятую, — весело сказал Чуркин. — Да вы не беспокойтесь, тут рядом.
Они втроем — он, Жаик и Феликс — уместились позади.
— И что мы там, собственно, должны делать? На этой вашей буровой?..
— Да нет, — сказал Чуркин, — вы не думайте… Тронули, Слава, — нагнулся он к шоферу и, высунувшись из машины, помахал Кенжеку, чтоб следовал за ними, и старухе с девочкой, стоявшим на обочине дороги, одинаковым жестом выпятив локоть козырьком — прикрывая глаза от солнца.
— Мурату привет передам! — прокричал он, перекрикивая мотор набирающей скорость машины. — Мурату!
Старуха обрадованно закивала, хотя по лицу ее трудно было определить, поняла ли она его. Жаик тоже высунулся и что-то крикнул по-казахски.
«Газик» с места взял так резко, что у Феликса ломотой отдалось в затылке.
Аул остался позади.
— Да нет, — возвращаясь к прерванному разговору, сказал Чуркин, — вам делать на буровой, конечно, нечего, мы туда только на минутку подскочим, керн посмотреть… — Он улыбнулся и потер руки, со вкусом, похрустывая костяшками, ладонь о ладонь.
— Керн! — повторил он, жмуря свои редкостной синевы глаза. — Там еще вчера должны были его поднять.
— Гм… — произнес Гронский.
— И потом — Самсонов, — сказал Чуркин. — Самсонова с собой заберем. — У него так это вышло, как если бы он и на секунду не сомневался, что всем известно, кто такой Самсонов.
— Что вы говорите? — подхватил Гронский. — Самсонова? Это все меняет! — В зеркальце над ветровым стеклом Феликс ухватил на мгновение его лицо — невозмутимое, язвительно-бесстрастное. — Кстати, позвольте узнать, кто этот Самсонов, за которым мы едем?
— Самсонов?.. — слегка потерялся Чуркин. — Диссертант. Из Ленинграда. — И, поскучнев, добавил: — Кто в поле вкалывает, кто диссертации пишет…
Машину тряхнуло, по днищу кузова осколочной россыпью ударили камни.
— Но Самсонов — это другое дело. — Чуркин снова повеселел. — Самсонов — это голова. А голдене копф, — сказал Чуркин. — Вы знаете, что такое — «а голдене копф?»[6]— спросил он, обращаясь ко всем, и в первую очередь к Гронскому.
— Я это знаю, — сказал Гронский. — Когда-то я жил в Одессе. А вы откуда это знаете?
— А почему бы мне это не знать? — сказал Чуркин. — Если моя мама в девушках была Рабинович?..
— А папа — Чуркин?
— А папа — Чуркин!
— Что делается… — вздохнул Гронский.