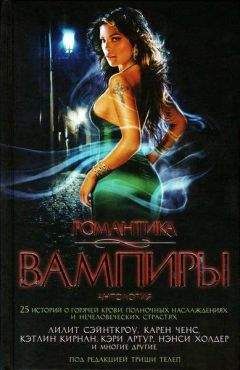РИЧАРД ФЛАНАГАН - КНИГА РЫБ ГОУЛДА
Моих фолиантов!
Тех самых фолиантов, которые я столь самоотверженно много дней волок на себе! Фолиантов, с помощью которых Брейди должен освободить нас! Фолиантов, которые убили Йоргена Йоргенсена и ради которых я рисковал жизнью, а Капуа Смерть по воле случая даже распростился с ней…
Я метнулся к Салли и выхватил книгу, которую та разрывала на части и скармливала пламени, готовый драться, чтобы спасти хоть один том от маниакального, дикарского аутодафе, но, к удивлению моему, не встретил ни малейшего отпора — Салли просто выпустила том из рук. Когда я попытался сбить огонь с уже занявшихся страниц и вставить их обратно, то обратил внимание на слова, высвеченные пламенем, которое поглощало поля их. Поднеся книгу поближе к костру, я прочёл несколько предложений, казалось бы лишённых смысла и посвящённых покупке стульев как тщетному акту искупления грехов, очень реальных, хотя и не поддающихся однозначному определению. Тут огонёк добежал до моих пальцев, я вскрикнул, отдёрнул руку, и страница, ещё прежде вырванная, упала в костёр. Я снова взглянул на Салли, но она продолжала смотреть в книгу, на строчки, мною недавно прочитанные, и я снова заглянул в книгу и пробежал глазами то, что отныне стало её началом; лист был надорван, и первые слова из тех, которые поддавались прочтению, были такими: «…ибо я — Вильям Бьюлоу Гоулд, зеленоглазый, с душою, напоминающей терновую ягоду, и редкими гнилыми зубами, косматый, оплывший жиром, как сальная свечка, и я собираюсь рисовать рыб, и те уловят ещё одну душу, например мою…»
Страдая от чувства, хоть и весьма смутного, будто встретил что-то уже известное, я перелистал ещё несколько страниц, на которых встречались рисунки рыб и записи, которые местами казались делом рук моих — во всяком случае, почерк и манера были узнаваемы, — но в остальном представляли собой сущую абракадабру, хотя и в ней наблюдались черты забавного, а то и пугающего сходства с реальной жизнью на Сара-Айленде.
Но в низу страницы в самом начале книги на глаза мне попалось несколько поразительных строчек, и я испытал нечто похожее на панику.
«Вильям Бьюлоу Гоулд, — прочёл я, — родился с кой-какими воспоминаниями о предыдущей жизни, которые ни его жизненный опыт, ни обстоятельства его рождения не могли объяснить; должно быть, с тех пор он только и делал, что измышлял несуществовавшее, наивно полагая, будто воображение может заменить опыт, объяснить и разрешить его проблему — это странное состояние памяти».
Решив более не читать подобных инсинуаций, я вырвал обидную для меня страницу и бросил в огонь, но тут же почувствовал, что дыхание моё участилось и стало тяжёлым, по спине от страха побежали мурашки и проступил пот, а в животе кишки устроили настоящий концерт.
Салли Дешёвка отёрла со щёк своих слёзы и знаками дала понять, что на дальней стороне костра требуется подбросить топлива. Меня разозлило полное безразличие к моим чувствам, и я решил почитать ещё, прямо сейчас, а затем стереть этот миг из своей жизни.
Мне требовалось вознаградить себя за бесполезные поиски Брейди, который сумел бы убедить меня, что всё наблюдаемое мной ныне лишь бред голодного человека, затерявшегося в диких лесах Трансильвании. Но куда там — Вилли Гоулд не мог отделаться от растущего подозрения, что он попал в эту книгу, словно в ловушку, стал её персонажем и его будущее, равно как и прошлое, уже написано, что оно стало известным, предсказанным, а потому столь же неизменным, сколь и невыносимым. Какой ещё был выбор, кроме как уничтожить проклятую книгу?
Я вырвал ещё с дюжину страниц и что было силы швырнул их в огонь, но тёплый воздух поднимался от костра таким мощным потоком, что создалась тяга, и струя его подхватила листки, подняла и бросила мне прямо в лицо. Отлепляя опалённую бумагу от носа и щёк, я снова не удержался от искушения и прочёл следующее: «Я остановился и, оборотясь, посмотрел вниз — чтобы увидеть у ног своих дымящуюся чёрную руку, ещё тлеющую там, где прежде был локоть…»
С ожесточением я провёл по странице рукой, скрутил её винтом и метнул в костёр, но тут мой взгляд задержался на новой, следующей странице, где был изображён пресноводный рак. Похоже, автору рисунка удалось в точности скопировать мою манеру. Пытаясь в панике избежать того вывода, что если сия «Книга рыб» является историей нашей штрафной колонии, то она вполне может оказаться пророческою и содержать предсказанье судьбы Гоулда, я вдруг понял, что книга ещё не вполне завершена, что в ней есть несколько недописанных глав, и с ужасом прочитал далее: «…я вдруг понял, что книга ещё не вполне завершена, что в ней есть несколько недописанных глав, и с ужасом прочитал далее…»
II
Как ни странно, теперь для меня вовсе не являлось загадкою, отчего я возжелал позволить всей «Книге рыб» кануть в инферно, то есть послать её ко всем чертям, и присоединиться к туземке, рвущей на части другие книги и бросающей в огонь выдранные страницы.
В тот погребальный костёр, где гибли описания самого разного прошлого многих людей и словно лежащая на ладони общая их судьба в будущем — ах, с какой радостью пожирало их пламя, оно даже выло от удовольствия! Как сказал мне когда-то давно Побджой, описания должны принадлежать не тому, кто описывает, а тому, кого описывают, так что я более не хотел, чтобы жизнь моя и смерть были предсказаны кем-то другим. Я слишком многое вынес, чтобы меня свели к голой идее. Так вот, в сей погребальный костёр я побросал невероятное количество слов — целую армию лживых, беззастенчиво врущих о прошлом монстров, которые усмиряли меня и держали в узах почище железных воротников с шипами вовнутрь, ножных колодок и кандалов, цепей с ядром на конце и обривания головы, и до чего же долго они мешали мне свободно рассказать о том, что было для меня так важно, о чём я просто не мог промолчать.
Я более не желал читать всякий вздор о том, откуда я взялся и кто я такой. Мне и без того это было известно: я был тем прошлым, которое бичевали — и кнутобойцем, обмакивающим хвосты своей кошки в ведро с песком, чтобы те сильнее врезались в кожу и память; я был тем прошлым, что падало, задыхаясь, с глухим, сдавленным криком сквозь люк эшафота, — и палачом, повисшим на дёргающихся ногах висельника; я был тем прошлым, которое было куплено, посажено на цепь, а затем изнасиловано китобоями, — и китобоем, заставляющим чёрную женщину есть собственные уши и кусок своего бедра.
В тот костёр я побросал книги, повествующие о предательстве, полные фантастических слухов и малоправдоподобных историй, большей частию вымышленных, и в основе каждой скрывались плутни, великие и малые, заслоняющие нас от стыда — стыда за то, что мы согласились стать тюремщиками и арестантами одновременно. Ни нам, ни детям нашим, ни далёкому потомству не избыть этот стыд, он будет жить в нас, даже когда забудутся его первоистоки. В тот костёр бросил я и «Тасманийские черепа» — труд, богатый красочными литографиями краденых черепов, — и они тоже плясали вокруг обуглившегося трупа.
В тот костёр, в самое прожорливое пекло, мы отправили всё: всю ложь, порождавшую тёмные тайны, разгадки их и последствия, вопросы и ответы, — чтобы покинуть эту тюрьму навсегда; все до единого журналы вплоть до последнего вывалившегося листка препроводили мы в тот костёр, и они горели, горели, горели.
Сперва кипы сырой бумаги чуть не загасили огонь, но он быстро пробился сквозь бумажные толщи, и вскоре его языки опять слились в одно большое шумное пламя, словно горевшая в нём Система, как издыхающий дракон, испускала предсмертное, апокалиптическое дыхание или только что вылетели на свободу тысячи яростных духов огня. Пламя в костре трещало и ревело, выбрасывая в тёмное небо целые гейзеры искр, а на кустах вокруг плясали красноватые отблески.
Огромный костёр стонал, словно бэнши — шотландский дух бэнши-плакальщик, чьи завывания предвещают смерть; он ярился, готовый поглотить всё вокруг; и вскоре кусты занялись сами собою от жаркого его дыхания, и даже небо стало позвякивать от его стенаний. Огонь всё ширился; и вот уже заполыхали стоящие поодаль мачтовые сосны, затем и лес позади них; и вскоре всё, что я видел, превратилось в море огня; и против собственной воли, не сознавая даже, что делаю, я присоединился к чёрной дикарке в её танце, купался в диком красновато-охряном свете, в его бликах, похожих на отблески адского пламени.
Едва волоча больные, тощие ноги, я пробовал подражать её прыжкам и скачкам, получалось не очень, но я, как мог, старался воспроизвести всякое её движение; и вместе с ней и детьми я выплеснул в танце так много всего накопившегося в душе моей, на самом её дне, что почувствовал, будто и она тоже горит в сём очистительном огне. В ней уживались радость и грусть, и это нельзя было выразить словами. В ней жили француз-ткач и моя бедная матушка, Одюбон и все птицы, которых он подстрелил, Старина Гоулд и его дочь, Вольтер и миссис Готлибсен, Доктор и его рыбы, Комендант и Тоутерех, Капуа Смерть и его возлюбленный Томми, зажаренные потору и человек по прозвищу Скаут. В нашей пляске присутствовало нечто понятное без слов. Тело моё участвовало в ней постольку поскольку, дух плясал сам по себе, и я тревожился, как бы мои больные старые кости не разлетелись и не рассеялись по бескрайнему странному ущелью.