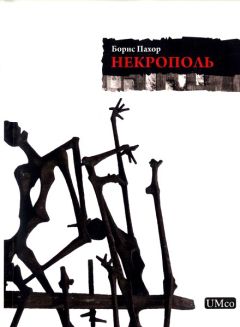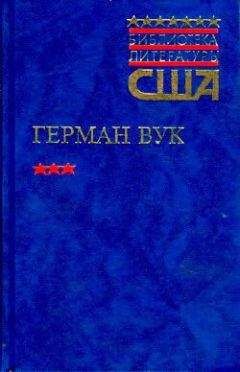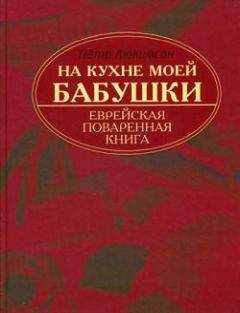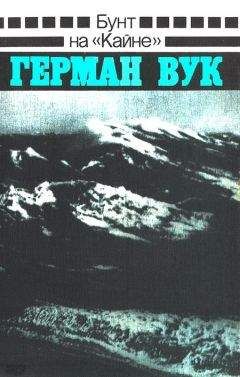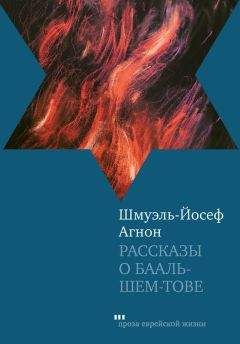Герман Вук - Внутри, вовне
Как это случилось? Видите ли, мой класс кончил школу имени Таунсенда Гарриса в феврале, так что до осени всем нам было, в сущности, нечего делать. Некоторые за это время собирались поддомкратить уже пройденные предметы на специальных курсах, чтобы получше сдать стандартные общештатные экзамены — так называемые «экзамены Риджентса». Для тех, кто лучше всего сдавал эти экзамены, штат Нью-Йорк выделял стипендии размером в сто долларов в год. Мне, так же как и Ли, уже, казалось, было суждено поступать в бесплатные городские колледжи; но получение стодолларовой стипендии могло означать, что у меня снова появлялись шансы на Колумбийский университет.
Ну так вот, когда «Зейде» об этом прослышал, он поспрошал, кого можно, и узнал, что в Нью-Йорке появилось некое еврейское духовное училище под названием «Иешива-университет». Сейчас это — крупное и очень солидное высшее учебное заведение, но сорок лет назад оно помещалось всего в одном здании и еще только пыталось встать на ноги. При нем была подготовительная школа, громко именовавшаяся Талмудической академией, и она готовила вчерашних школьников к «экзаменам Риджентса».
— Так почему бы, — спросил «Зейде», — почему бы Исроэлке не мог подготовиться к этим экзаменам именно там; а заодно бы он еще и подучил немного Талмуд?
Он, конечно, надеялся, что я после этого продолжу свои талмудические занятия и в конце концов стану раввином: и, стало быть, из полыхающего костра «греховной Америки» будет вынута лишняя головня. Папа был за, он сказал, что пара лишних месяцев усиленного изучения Талмуда мне не повредят. Я, не долго думая, согласился.
О, как мало я понимал, на что я себя обрекаю! Десять часов уроков английского и иврита, плюс два часа занятий с дедом, плюс четыре часа на трамвае — таково было мое ежедневное расписание. Да я бы вполне достаточно мог освоить Талмуд, занимаясь с одним только «Зейде». Утром я из Пелэма ехал на трамвае к нему, потом на другом трамвае я ехал через весь город в иешиву. Иной раз папа заезжал вместе со мной к «Зейде», чтобы посмотреть, как я грызу гранит талмудической науки. О, как озарялось его усталое лицо, когда он слушал наши с дедом дискуссии; он никогда не вмешивался, только слушал. А у меня, должен вам сказать, случались взрывы бунтарского настроения, когда я хотел сбросить с себя это бремя. Однажды я недвусмысленно заявил папе, что я до смерти устал от этих талмудических умствований по поводу законов двухтысячелетней давности.
— Исроэлке, я понимаю, — ответил папа. — Но если бы я лежал на смертном одре и у меня осталось бы только дыхание, чтобы что-нибудь тебе сказать, я бы сказал: «Изучай Талмуд».
Как я сейчас понимаю, вовсе не профессорский гений «Зейде», а именно такое папино отношение дало мне силы все это выдюжить. Он вручил меня «Зейде», чтобы тот дал мне религиозные познания, которых сам папа не мог мне дать по недостатку времени и образования. Долгое время я считал, что если я такой, какой я есть, то это в наибольшей степени — заслуга «Зейде». Но я ошибался. Это — папина заслуга, и только его. Всю свою жизнь я только то и делал, что старался быть похожим на папу.
* * *
Когда я чуть-чуть пообтерся в иешиве, мне там даже стало нравиться. Учащиеся — при всем том, что они были, конечно, порелигиознее, чем евреи в школе имени Таунсенда Гарриса, — все же в то же время следили за баскетбольным первенством, играли в спортивные игры, ходили в кино, перехватывали друг у друга экземпляры «Удивительных историй» и без конца говорили о девочках. Не все, конечно, совсем не все. Было несколько таких особо благочестивых, которые чурались «пустой болтовни», но большинство состояло из таких, как я. Однако же благочестивое меньшинство и раввины внушили мне нечто для меня новое — ощущение вины, красной нитью проходившее через всю жизнь в иешиве.
Возьмем хоть, наудачу, один пример — кока-колу. Благочестивое меньшинство указывало на то, что клей, которым прикреплена пробковая прокладка крышечек кока-колы, делается, возможно, из лошадиного жира, и, следовательно, тот, кто пьет кока-колу, может вкусить частички мяса некошерного животного. Я никого не высмеиваю, я просто показываю, до каких крайностей иногда доходило дело. Это предположение придавало поглощению кока-колы характер бесшабашной бравады, которая может навлечь на голову грешника громы и молнии, и взбаламучивало в душе ощущение вины. Для тех же самых благочестивых пуристов даже кино было «батлонус», то есть пустая трата времени Божьего — времени, за которое можно было выучить еще одну страницу Талмуда. Я и раньше знал, что ходить в кино в субботу — грешно; но то, что ходить в кино в самый обыкновенный вторник — это тоже значит оскорблять Бога, было для меня очень странно.
Однако же при всем при этом атмосфера в иешиве была какая-то теплая, домашняя: никаких социальных перегородок между бронксовцами и манхэттенцами, никаких бутербродов с ветчиной в столовой, никаких страховитых диктаторов, вроде мистера Лэнгсама или мистера Балларда. Тамошние раввины были, в общем и целом, добродушные ученые мужи, а мы, ученики, были все сплошь еврейские мальчики, говорившие на идише за изучением Талмуда и по-английски все остальное время. Это двуязычие отдавало ощущением детских лет, почти атмосферой Олдэс-стрит. Не было в иешиве ни блистательных снобов, вроде Монро Бибермана, ни язвительных скептиков, вроде Эбби Коэна. Все были моего поля ягоды, варившиеся в собственном соку.
Это-то и было самое главное. Это все решило. Все варилось в собственном соку. Ибо иешива была тесным, закрытым мирком, над которым висела тень вины, а я пришел туда со свежего воздуха, из залитой солнцем невинной Америки. Я был не такой, как они.
Например, еще когда приехал «Зейде», мама отрядила особые кухонные полотенца с красной полоской для вытирания мясной посуды, а особые — с синей полоской — для молочной. Как-то в субботу я мыл тарелки, а моя сестра Ли их вытирала. Я заметил, что она вытирала тарелки из-под мяса полотенцем с синей полоской. Во мне, наверно, взыграло настроение, подхваченное в иешиве, и я обратил ее внимание на то, чем она вытирает. Это была с моей стороны ошибка. Ли в тот момент была чем-то озабочена: то ли мыслями о Корнеллском университете, то ли трудным экзаменом, то ли неудачным романом, то ли какой-то ссорой в колледже Хантера. Короче, Ли швырнула полотенце мне в лицо, заорала, чтобы я тогда сам и вытирал тарелки, вызывающе крикнула, что если она так грешит, вытирая эти тарелки полотенцем с синей полоской, то пусть Бог поразит ее громом, и пулей выскочила из квартиры. Ли становилась день ото дня красивее, но ладить с ней становилось все труднее.
Этот случай меня обеспокоил. На следующий день в иешиве я рассказал о нем своему приятелю, добродушному бруклинскому парню, с которым я вместе учил уроки, — нисколько не фанатику, а даже наоборот, большому любителю кока-колы.
— Неужели Бог может поразить меня громом, — спросил я его, — если я буду вытирать тарелки не тем полотенцем? В чем тут смысл?
— Как только ты идешь хоть на какой-то компромисс, — сказал он торжественно, — начинает разрушаться вся вера. Нужно строго придерживаться правил.
Я не был удовлетворен: должен был существовать какой-то лучший ответ. Я решил узнать, что думает об этом Коцкер-Илуй.
Коцкер-Илуй — то есть «гений из Коцка» — был из тех, кого нельзя было даже заподозрить в пристрастии к кока-коле. Я сомневаюсь, что он когда-нибудь хотя бы слышал это слово. В классе, где мы изучали Талмуд попарно, он занимался в одиночку: бледный, тщедушный, всегда в черном, он стоял в углу комнаты за пюпитром, на котором лежал Талмуд, раскачивался и бормотал. У него не было напарника, потому что никто не мог бы за ним поспеть. Говорили, что он собирается одолеть весь Талмуд к двадцати годам, что было фантастическим подвигом. Как бы рано вы ни появлялись в классе, Коцкер-Илуй был уже тут, бормоча и жестикулируя над томом Талмуда. Как бы поздно вы ни уходили, Коцкер-Илуй оставался еще позже. Никаких английских предметов он не изучал. Он был одинокой, привилегированной, внушающей суеверное почтение маленькой знаменитостью.
Коцкер-Илуй знал «Зейде» — или, может быть, он знал его отца или деда. Встречаясь со мной, Коцкер-Илуй всегда спрашивал меня о здоровье деда — спрашивал, конечно, на идише. Если Коцкер-Илуй и знал английский — а я полагаю, что, захоти он, он мог бы выучить его за сутки, — он никогда этим языком не пользовался. «Зейде» мне говорил, что я должен короче сойтись с Коцкер-Илуем. Но я не собирался с ним дружить. Он меня пугал.
В тот день я увидел Коцкер-Илуя, когда мы стояли в очереди к фонтанчику с питьевой водой. Я был впереди него, и я предложил ему занять мое место, но он отказался. Тогда я спросил:
— Послушай, можно задать тебе глупый вопрос?