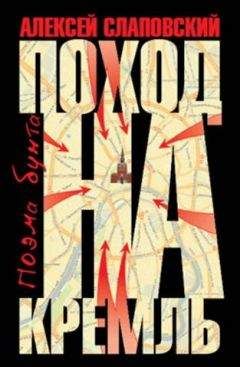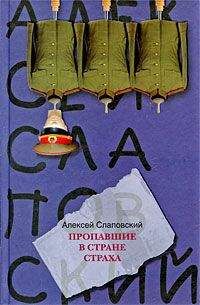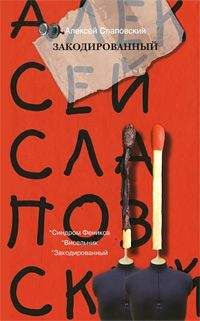Алексей Слаповский - Анкета. Общедоступный песенник
Стильно стриженный — молодежно — мужчина лет шестидесяти повел речь.
— Мы рады познакомиться с братом Юрия Владимировича. Не имеем чести, к сожалению…
— Самощенко Юрий Валентинович.
— Вы — двоюродный брат?
— Родной. Сводный. По отцу.
В этой среде открыто недоумение выказывать не принято — и все информацию скушали спокойно.
— Хорошо. Передайте, во-первых, Юрию Владимировичу, пусть выздоравливает.
— Спасибо, — сказал Юрий, с досадой думая, что Крахоборов мог хотя бы предупредить, что назвался больным. Видимо, он уже звонил этим людям.
— Итак, — продолжил молодежно стриженный подстарок, — сегодня мы должны обсудить все окончательно. Хотелось бы ознакомиться с вашими соображениями.
— Мои соображения таковы, что, учитывая конъюнктуру сбыта и рынка, фондовых инвестиций и девальвации, а также привходящих обстоятельств субъективного характера, ваши предложения для нас неприемлемы, — высказался Юрий.
— Позвольте! Но ведь недавно Юрий Владимирович…
— Что такое недавно? — вежливо, но категорично перебил Юрий. — Для вас недавно — это неделю назад. А для нас неделя — год. Вчерашний день для нас — далекое прошлое. Мы вынуждены учитывать вибрации каждого момента и в зависимости от этого производить корреляцию. Everything is changing too quickly, — заключил он с улыбкой.
— I’m sorry! — взволнованно воскликнул человек, выделяющийся средь костюмов линялыми джинсами и клетчатой мятой рубахой, и с невероятной быстротой заплевался по-английски, возмущаясь и негодуя, разводя руками и глядя то на одного, то на другого из присутствующих, указывая рукой со стаканом на Юрия.
— Боюсь, нас не все могут понять, — дождавшись окончания его речи, сказал Юрий, глянув снисходительно на сидящих поодаль за столиком квадратных парней. — Поэтому я отвечу вам по-русски. Ответ таков: ваше право предложить, наше право отказаться. Ю андестен?
— Андестен-то он андестен, — сказал молодежно стриженный. — Но я — не андестен. Особенно насчет права отказаться. Мы на таком этапе отношений, что отказаться — значит противопоставить. Вы, кажется, заблуждаетесь относительно серьезности наших намерений и серьезности вообще этого дела. Просто узнав о нем — всего лишь узнав! — вы уже оказались задействованы — и я был уверен, что сегодняшняя встреча нужна для формальности. Понимаете меня? Согласившись при первой нашей встрече выслушать наше предложение, Юрий Владимирович тем самым согласился его принять. Я не могу предположить, что ему неизвестны правила игры. Или он изволит блефовать? И вы — подставное лицо, мальчик для битья? Так мы тебя побьем. Приятно разве будет Юрию Владимировичу увидеть побитого брата?
— Ты меня на понт не бери! — хладнокровно сказал Юрий. — Говорить больше не о чем. Мы отказываемся.
— Что ж. Хоть вы и брат Юрий Владимировича…
— Да не брат он, — послышался голос. — Придурок какой-то, его для забавы держат. Нищий бывший, в Саратове на главпочтамте сидел. Адрес прописки… — и голос в точности назвал саратовский адрес Юрия! — Все это я и без вас знаю, — сказал молодежно стриженный. — Мальчики! — позвал он. — За битого двух небитых дают! Проверить бы надо.
Четверо мальчиков поднялись из-за столика.
Они подошли к Юрию.
Первый взял из его рук стакан.
Порежешься еще, — позаботился он, сожалеющими глазами заглянув Юрию в самую суть души, туда, где страх смерти.
Второй стукнул ногой по стулу, стул вылетел, Юрий упал.
Третий стукнул в живот.
Четвертый в лицо.
Больше Юрий ничего не помнил.
Очнулся он дома.
Над ним был врач, у постели сидел Крахоборов.
— Как ты? Как ты? Не грусти, все цело. Синяки только. Это ерунда. Эх, брат, брат… Какие сволочи вокруг, а? Какие сволочи! Господи, как жаль-то тебя! — приговаривал Крахоборов. — Поубиваю сволочей! Разве так можно? Ведь люди же мы, не звери же мы! Поубиваю!
— Ничего не надо, — тихо сказал Юрий. Подумал — и задал вопрос, который, казалось, мучил его долго — хотя не мог он его мучить долго, ведь он в забытьи был, но ощущенье было, что мучил долго:
— Ты меня не подставил, брат?
— Дурак! — с сердцем сказал Крахоборов. — Идиот!
Он выпроводил врача и продолжал:
— Как ты мог это подумать? Ты сам виноват. Я же тебе сказал: действовать по ситуации.
— Ты мне сказал: не соглашаться ни в коем случае.
— Но не тогда, когда тебе смертельная опасность грозит. Неужели ты мог подумать, что…
— Я в сортир хочу, — сказал Юрий.
— Тебе лежать надо! Врач сказал — дня три не вставать. Может, у тебя сотрясение сильнейшее, может… Мало ли! Я сейчас. Тебе как — по маленькому, по большому?
— По всякому.
Крахоборов принес ему тазик. Юрий стеснялся, Крахоборов вышел. Юрий с непривычки, как ни старался, замочил постель и вообще изрядно испачкался.
— Вот черт! — конфузливо приговаривал он, когда Крахоборов, приподнимая его, менял постельное белье, потом принес влажное полотенце и обтер Юрия, ничуть не брезгуя запахом и видом того вещества организма, которым было испачкано тело Юрия — наоборот, с каким-то даже умилением.
— Знаешь что, — сказал Юрий. — Мне ведь многого не надо. А задарма жить у тебя не хочу. Я дворником устроюсь.
— Глупости! — рассердился Крахоборов. — Со знанием английского, с твоей начитанностью, с твоим даром, наконец, талантом — в дворники! Мы с тобой еще сериал на телевидении закатаем. Фильм, правда, провалился, денег не собрали, швед надул. А сериал — точно закатаем! Или, в крайнем случае, бери мою машину, занимайся извозом. Дело слегка опасное, но веселое, живое, с людьми работа.
— Не надо мне никаких людей. Один я привык, — сказал Юрий.
— И меня, может, не надо? — спросил Крахоборов.
— Тебя — надо. Ты же брат, все-таки.
— Ну, спи. Отдыхай.
Крахоборов пригладил волосы Юрия и отвернулся, но Юрий успел заметить, как блеснули влагой глаза его.
Куплет двенадцатыйЗимою сменяется лето.
Любовью сменилась любовь.
Опять полюбили два брата —
И снова одну на двоих.
Юрий стал дворником.
Дворником образцовым — с любовью к своему делу. Вставал он в пять утра — чтобы не мести пыль под ноги спешащим на работу людям, как поступают некоторые другие дворники, начинающие труд именно тогда, когда большинство трудящихся выходит из дома. Он делал и то, чего не делал из других дворников почти никто: производил так называемую вторую уборку, в служебной дворницкой инструкции красной строкой записанную, но повсеместно игнорируемую. Он производил ее в три часа дня — опять-таки чтобы не помешать людям — возвращающимся с работы.
Но, бывало, трудился и весь день, с утра до вечера — когда кончилась пыль, когда первые мокрые снегопады осени обернулись заморозками и гололедицей. Юрий не посыпал лед песком или солью: от песка — грязь, от соли портится обувь и экология, он скалывал лед специальным приспособлением: металлическое рубило на длинной деревянной ручке, скалывал, причем осторожно, чтобы не щербатить асфальт.
Он работал так, что даже начальник его, пожилой и тертый жизненным опытом, циничный поневоле домоуправ Игнат Сергеич, стеснялся его и обходил стороною.
Но однажды — в канун бывшего праздника Седьмое Ноября, подошел, дыхнул скромным перегаром — теплым, уютным, домашним — и сказал:
— Знаешь, а я ведь партбилет не выкинул. Храню. Ведь должно быть что-то у человека… Сохраняться что-то… Понимаешь?
Юрий кивнул, не прерывая работы.
— Если б все так трудились, где б мы давно уже были! — горестно вздохнул Игнат Сергеевич. И пошел было, но остановился, потоптался, вернулся.
— Про партбилет это я так. Шучу.
И хихикнул.
Как ни старался Юрий, но осень того года была очень уж капризной: в ночь дождит, утром заморозки, — и гололедных мест на его участке оставалось немало — не успевал. На таком месте и поскользнулась однажды мамаша с ребенком — прямо перед глазами Юрия. Он бросил свой ледоруб, подбежал к ней, помог подняться.
— Не ушиблись?
— Работнички чертовы, — сказала женщина. — Не тротуар, а каток!
— Че ты, мам? Че ты? — тянул ее за руку пяти-шестилетний сынишка, не понимающий еще чужой боли. — Че ты? Пошли! — Наверное, он спешил к каким-то домашним играм после постылого детского сада, к телевизору, к вкусному маминому ужину. И досадовал, что мама медлит.
Но она ступила раз — и охнула.
— Если перелом — в суд подам, — сказала она. Но беззлобно. Пожалуй, даже с некоторой иронией.
— Я вас провожу, — сказал Юрий.
— Да уж будьте любезны.
Мальчик насупился. Он рассердился на маму. Он вырвал свою ручонку из ее руки и шел сбоку, глядя в сторону.
Жила женщина на улице с милым названьем Дубки, в одном из двенадцатиэтажных панельных домов, что торчали в ряд, друг другу в затылок; летом их уродливость как-то скрадывалась окружающей зеленью, а голой осенью выступала тоскливо — и каждый дом казался одиноким, несмотря на близкое соседство других домов — причем, по-своему одиноким, особо одиноким — несмотря на полную схожесть с другими домами.