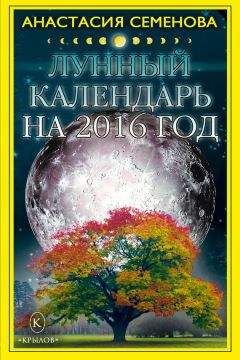Мама тебя любит, а ты её бесишь! (сборник) - Метлицкая Мария
– А ты откуда знаешь? Тебя же нигде не было.
– Была! У тебя перед носом на подоконнике сидела! Мы с Томкой Богдановой на этом самом окне устроились – только спиной к вам! И через открытую фрамугу отлично слышали, как вы с Витькой переговаривались на улице: «Не видишь, где она? – Не вижу! Может, вообще, не пришла? – Может, в коридор вышла? – Пойдём там тоже посмотрим!..»
– Так это твоя спина мешала мне тебя в зале разыскивать? Надо же! Чудеса! Ну, со спины-то вы все одинаковые были – как цыплята в инкубаторе – все в школьных формах, фартучках, ленточках…
– А Томка хихикать начала, ей так и хотелось обернуться! А я ей прошептала: «Сиди смирно! Не поворачивай голову!»
– Не хотела ко мне выходить?
– Не хотела. Танцевать хотела… Но знаешь, мне правда очень смешно… и весело было, что ты меня разыскиваешь, а я сижу прямо перед тобой только через стекло, а ты поверх моего плеча в зал вглядываешься… меня ищешь… ищешь…
Сколько бы ещё было этих «а помнишь…». И всё по телефону!
В общем, нервы у меня не выдержали. Я решила сама это дело с мёртвой точки сдвинуть. Я подумала, может, он из-за меня не едет? Всё-таки дочка, почти уже взрослая. Стесняется, как я на это посмотрю. Так надо с ним познакомиться. Я ему понравлюсь. Найдём общий язык. И всё будет легче. Я позвонила потихоньку от мамы. Ну, потому что ведь она бы точно запретила эту самодеятельность.
– Здравствуйте… Это говорит Лена, дочка Кати.
– Здравствуйте.
– Знаете, у меня к вам разговор есть важный. Только это не по телефону. Вы сейчас дома? Можно, я приеду?
– Я?.. То есть… я… э…
Нельзя было терять инициативу, и я решительно проговорила:
– Так я выезжаю. Буду через час.
– А… адрес…
– Я знаю. Вы в том же подъезде, что и тётя Галя, только на втором этаже. Да?
– Да. Так.
Я поехала. Я нашла эту пятиэтажку. Я поднялась на второй этаж, я подошла к этой двери и, переведя дыхание, позвонила.
Я слышала, как он тихо подошёл к двери с той стороны. Я позвонила ещё раз – настойчивей, чтоб не сомневался, что это я, что я – к нему. Он стоял, дышал и не открывал. Я позвонила снова, уже не так уверенно, даже просительно. Я уже поняла, что он не откроет.
Больше я не звонила. Я стояла перед этой дверью старой коричневой обивки, за которой находилось мамино детское прошлое и которое я не в состоянии была отворить перед мамой. Мне даже показалось по дыханию, что он заплакал. Он плакал там за дверью и не открывал. И я ничего-ничего не могла сделать… Я ощутила мировую, космическую, вселенскую беспомощность. Ещё большую, чем когда умер папа. Потому что тогда было всё ясно – ничего исправить нельзя, потому что папа умер. А здесь… все ещё были живы, а исправить уже ничего было нельзя. Но – почему? Почему?..
Я возвратилась домой и села к маме на диван.
Мне самой хотелось лечь носом к стенке и больше не вставать. Но это была уже мамина прерогатива, поэтому я не могла себе этого позволить.
Прошла неделя. Игоряшка больше не позвонил ни разу.
– Мне вообще никто не нужен. Мне с тобой хорошо. Что-то Игоряшка пропал. Неделю уже не звонит. Ты заметила? И у Гальки не спросишь – в отпуск уехала.
– «Найдём тебе другого – честного», – вспомнила я любимую мамину фразу из фильма «Берегись автомобиля».
А ещё через месяц мы сидели с мамой за вишнёвой настойкой, сами себя веселя в очередной раз, и пели:
РАЗВЯЗКА.
И тут позвонила тётя Галя.
– Кать! Игоряшка-то… умер! – сообщила она почти будничным голосом. – Мы вчера из отпуска приехали, гляжу – в его квартиру мебель носят – старичок какой-то въезжает. Я говорю: «А сосед-то наш где?» – «Умер, говорит, ваш сосед. От рака. Теперь вот я тут умирать буду». Представляешь?! А мы и не знали, что он болел…
– Вот почему… – только и прошептала мама, глядя в одну точку.
И тогда я поняла, почему он не открыл мне дверь. Не мог, не хотел обременять маму последними неделями своей страшной болезни.
Мама долго сидела и смотрела в одну точку. А я смотрела на неё.
И никто в целом мире не мог нам помочь. И было это странно и неправильно. Как будто два снаряда упали в одну воронку, а нас всегда учили, что так не бывает. Ведь совсем недавно умер папа… Но тогда Игоряшка же не мог умереть, не должен был…
– Ну, вот, теперь, когда вы у меня уже стали достаточно опытными писателями, – радостно объявила Ольга Леонидовна, – я бы даже сказала маститыми, мы возьмём задание посложнее! Теперь вы должны написать рассказ в каком хотите жанре и на какую хотите тему, но с одним главным условием: чтобы этот рассказ был о самом для вас в жизни главном и болевом. На данный момент, разумеется.
– А если об этом невозможно? – робко возразила я.
– Почему невозможно? – удивился Пашка. – У меня, например, секретов нет.
– В том-то всё и дело, – одобрила его Ольга Леонидовна, – что настоящий писатель должен уметь обнажать свои мысли и чувства. Должен быть искренним, чтобы читатели ему поверили. Должен уметь поделиться самым сокровенным!
– А почему это сокровенное должно быть обязательно болевым? Может, оно весёлое? – решила найти компромисс Светка.
– Я сейчас не о юмористическом жанре говорю, а об исповедальном, – настойчиво уточнила Ольга Леонидовна. – А болевой он должен быть, потому что у настоящего писателя душа должна болеть! Обещаю вам, что зачитывать вслух сочинения не буду.
Несмотря на такое обещание, я это сочинение… никогда не написала.
У меня в школе была несчастная любовь. Это не самое страшное, что она была несчастная. Самое страшное, что эта несчастная любовь была первой. А всё первое очень важно – для второго, третьего и так далее. Вот знаете, как сначала пойдёт – задастся или не задастся, – так ты на будущее и настраиваешься, программируешь себя, исходя из полученного опыта. И когда мне потом в любви не везло, я вспоминала… откуда ноги растут.
Звали его Серёжа. Тот самый. Учился он на класс старше. Я – в восьмом, а он – в девятом. У него был очумительно красивый, выразительный, низкий голос. И мы – несколько старшеклассников – делали к 9 Мая композицию по стихам поэтов, погибших на войне.
Он читал:
Он так произносил эту последнюю строчку, что мне сразу хотелось всего – войны, канонады, победы, хотелось выносить его, раненого, с поля боя, спотыкаясь и шепча: «Сейчас, сейчас, Серёженька, потерпи, ещё немного»… Хотелось прямо со сцены разбежаться и взлететь над нашим актовым залом и выше-выше, над школой, над спортивной площадкой, где он так красиво умел подтягиваться на турнике, взлететь над всеми нашими пяти-, девяти– и двенадцатиэтажками на самой окраине Москвы – у Кольцевой дороги…
В этой праздничной стихотворной композиции я была «лирическим отступлением». Поэтому между стихами Павла Когана и Николая Майорова, на разрыв аорты произносимыми нашими мальчиками, я тихо читала Пастернака: «Снег идёт, снег идёт…»
Потом ещё долго, завидев меня в школьном коридоре, ребята говорили: «А вон снег идёт».
Надо заметить, что соперниц поначалу у меня не было, потому что Серёжку больше интересовал футбол и всякое такое. И вовсе эта любовь могла бы стать для меня не несчастной, если бы я знала, как себя вести. Но я понятия не имела, что мне делать с этим мальчиком Серёжей, кроме как мечтать о нём издали, вздрагивать от звуков его голоса, краснеть, сталкиваясь в дверях, терять дар речи, если он обращается с вопросом, быстро отводить глаза, чтобы не встретиться взглядом.