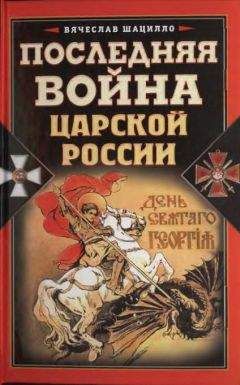Василий Белов - Год великого перелома
Ей часто снился тот теплый дождь и гроза, полыхающая над ночной Ольховицей. Как хорошо гостилось тогда у крестной… Проливной дождь, теплая ночь. Желтый свет керосиновой лампы, чистые половики на полу и запах сусла. Запомнились тикающие ходики, запомнилось даже, где стояла минутная стрелка, когда он сказал: «Мне надо поговорить с тобой. Ты знаешь о чем…» Он просил ее поговорить с братьями, посулился прийти в Шибаниху послезавтра. Но он не пришел ни через неделю, ни через месяц. И только горница ольховской крестной осталась такой же, как тогда, и Тоня много раз была там в гостях… И что же ей делать теперь? Ребята, и свои, и чужие, зовут к горюну. Владимир Сергеевич не дал ей никаких вестей. Жив ли он, она тоже точно не знала. А сердце подсказывало все свое, все свое. Живой он! Где ни на есть, а живой… Да ей-то что делать? Никто, кроме двух старинных подружек, не знал, по кому Тонюшка тоскует и сохнет. Ни братья, ни мать родная, ни крестные — шибановская и ольховская — не знают того. Только одна корова Красуля знала про Тонькины слезы. Да и то, может, только догадывалась…
На игрище, в самый разгар пляски, Тоня вспомнила про корову. Отказалась девка идти к горюну к очередному ухажеру. Парень из чужаков обиделся, но ему тут же пригласили другую. Тоня ухмыльнулась и была такова. Что ей этот горюн? Дома Красуля ждет, стоит не доена. Одна и была корова в хозяйстве, но братчики и одну сдавали в колхоз… Отелилась в чужих людях, на холодном подворье. И вот сегодня вдвоем с теленком стояла Красуля дома, во своем теплом хлеву, ждала, наверно…
Брат Евстафий никогда не ходит на игрища. Опять читает какую-то книгу, мать на печке. Тоня схватила давно не троганный подойник. Она ошпарила посудину самоварным кипятком, самовар еще горячий стоял у шестка. После этого сунула в рыльце вересковую, еще днем припасенную веточку.
И побежала доить…
Деревянный фонарь, подвешенный на штыре, еле светил. Даже и при таком свете было видно, что стало с Красулей. Тоня чуть не заплакала: широкое коровье брюхо, передние до колен, а задние ноги целиком все в грязи и в сухом навозе. Теленок тыкался с другого боку. Тоня сразу почувствовала, что доить было нечего, давно все высосано. Кому было отлучить теленка, ежели с новотелу иной раз и недоенной стояла Красуля? Хоть живыми оба остались и то ладно… Завтра братаны отгородят теленку место, сегодня не успели.
Тоня отнесла почти пустой подойник обратно в избу. Нацедилось всего один ставочек. Хотелось привести в чувство Красулю, помыть вымя теплой водой, отмочить и выскребсти навозные бляшки. Вот только скребницы-то нет! Скребница корове сроду была не нужна, вся скотина всегда стояла на хорошей хвойной подстилке. Только у лошадей выскребали линялую шерсть.
Тоня вспомнила, что самая ближняя скребница — у Роговых. Скинула девка скотинный дворной казачок, набросила на плечи теплый платок и побежала к соседям. Она не стала проходить в красный угол, вызвала Веру к дверям и попросила что надо. Вера зажгла фонарь, сходила за скребницей на верхние сени. Большой живот мешал жене Павла Рогова наклоняться, ходила она совсем тихо. Тоня взяла скребницу и обратно бежать, но Вера шепотом остановила подружку: «Помешкай! Ну-ко, на ушко чево-то скажу. Да и покажу кой-чево…»
Она провела Тоню в куть, где горела лампа, сходила к шкафу и украдкой показала фотографию с Василия Пачина. Они пошептались в кути, пока дедко Никита не позвал к самовару. Тоня стремглав убежала домой…
Господи, что делать ей? Матрос в каждом письме через Веру наказывает ей поклоны, она же только отмалчивается да отшучивается. Теперь знает про то вся деревня. И все ругают ее, все хвалят ей жениха с черными лентами и светлыми пуговицами. И только две живые души, Вера да Палашка Евграфова, знают, что у Тонюшки на уме. Вон Верушка опять свое твердит: не хватит ли бегать по игрищам? Чего говорить, вот-вот родит Вера второго. Палашка тоже вот-вот… Пусть и незаконного, а ведь давно уж не девка. Одну тебя из всех ровесниц все еще зовут ко столбам. Одна ты выплясываешь на игрищах… Или наказать Верушке, чтобы писали Василию и от нее, от Тони, поклон? Только стоит сказать… «Господи, прости меня, грешную…»
Тоня, не заходя в избу, опять бежит в хлев к своей Красуле. Фонарь как висел, так и висит на штыре. Она пробует отдирать скребницей насохший навоз, корова с непривычки взбрыкивает. Сунулась в другой угол хлева. «Красуля, Красулюшка! — зовет корову хозяйка. — Иди, матушка, сюда!» Корова не хочет ни мыркнуть, ни оглянуться. Теленок бестолково тычется под материнское брюхо. Руки у Тони опущены…
Стук в обшивку выводит девку из слезной задумчивости, она хватает фонарь и бежит из хлева к воротам. Пока бежала да открывала — ушли. Только в снежном смыгу у крыльца торчит осиновая доска со вделанным в нее длинным еловым колом. На доске крупно намалевано зоревым суриком: «Десяцкой».
Тоня поправляет кол, чтобы стоял прямо. Думает: «Чего-то больно скоро дошла очередь. Неужто пошла седьмая неделя?»
В Шибанихе сорок два дома. Пока дойдет очередь быть десятским, минует ровнехонько шесть недель. Не часто приходится быть дому десятским. Раньше дел у десятских было совсем немного. Пустить ночевать проезжих начальников, провести слепого до соседней деревни, загаркать народ, ежели собирался сход, — вот вся забота. Правда, это кроме ночного дежурства, установленного в колхозную пору.
Теперь проезжий начальник не станет ночевать где попало. Зато много собраний. Нищих тоже прибавилось, а нынче и ночевать-то пустят не в каждую избу. Скажут, что тесно, а сами боятся вшей, возьмут да и отправят к десятскому. Как тут и было! Легки нищие на помине…
У крыльца стояла нищенка, но не с корзиной как обычно, а с заплечным мешком. Она молча стояла в мартовской темноте.
— Ты чья? — спросила Тоня. — В дом проходи, чево стоять-то…
Женщина не отозвалась и даже не пошевелилась. Тоня испугалась:
— Ты нищая?
— Ни! Мы украинки… — послышался грудной совсем не старушечий голос. — Я не сама, там ще двое. Засланы…
— Нас к вашей хати послали. Нам тольки до ранку…
Две такие же закутанные женщины и тоже с мешками подошли ближе:
— Добри день…
— Заходите. Здравствуйте. — Тоня открыла сначала ворота в сени, затем дверь в избу, чтобы осветить сени. Она привела выселенок в тепло своей большой пятистенной избы:
— Разболокайтеся!
Женщины сволокли с плеч поклажу и развязали платки. Шерстяные однорядные сачки они не стали снимать.
— Да вы не стесняйтесь! — Тоня уже тащила из кути вчерашние пироги, выставляла из шкафа посуду и сахарницу:
— Ой, чево это вы?