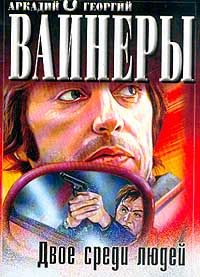Аркадий Вайнер - Петля и камень в зеленой траве
Я думал об этом еще днем, когда разговаривал в театральном буфете с актером Стефаниди и капельдинером Анисимовым. Я угощал их пивом, а они добросовестно напрягали память и сообщали мне палеонтологические анекдоты из сценической жизни, рассказывали о житейских трудностях, об отсутствии в городе мяса, об интригах бездарностей, о грязных махинациях в очереди на получение жилья — главреж дает квартиры только своим дружкам и любовницам. О Михоэлсе актер Стефаниди помнил мало и смутно. Он только помнил, что его убили, причем связывал это по времени со смертью Сталина и понижением цен на селедку. «Я тогда с горя запил», — грустно сообщил он и добавил: «Жалко было — такой мужик громадный, с генеральским басом».
Он его совсем не помнил и врал мне, чтобы поддержать интересную беседу. Михоэлс был невысок и говорил мягким баритоном.
И капельдинер Анисимов все забыл. Единственно, что запомнилось ему, как фотографировали Соломона в фойе. Специально приехал фотограф, и Михоэлса уговорили сфотографироваться с труппой и сделать несколько портретных снимков. Анисимов помогал фотографу, расставлял стулья, таскал софиты, и потом фотограф подарил ему один не очень качественный отпечаток. «Это как раз в день смерти и было, за несколько часов до спектакля», — сказал Анисимов. — «Потом-то уж не до фотографий было».
Никаких групповых фотографий у кадровицы Ольги Афанасьевны я не видел.
— Любопытно посмотреть бы было на эти снимки, — сказал я. — Да где их сыщешь.
— Моя сохранилась, — невозмутимо сказал Анисимов. — Я ее как приколол кнопками в нашей раздевалочке служебной, так она до сих пор и висит там. Никому не мешает.
Мы выпили еще по несколько стопок коньяка и подружились с Анисимовым на всю жизнь. И он подарил мне фотографию Михоэлса, отпечатанную за несколько часов до его смерти…
Я встал с кровати и вынул из чемодана папочку, раздернул молнию и добыл в туманный сумрак моего номера старый фотоснимок.
Внизу, в ресторане, оголтело ударил в тарелки оркестр, казалось, что не только посетители, но и лабухи уже напились до чертей. Залихватски вопил в микрофон певец, и дробно топотали каблуки.
Оц-тоц-перевертоц, бабушка здорова,
Оц-тоц-перевертоц, кушает компот,
Оц-тоц-перевертоц, и мечтает снова,
Оц-тоц-перевертоц, пережить налет…
Соломон, ты этого хотел? Ты ведь сам писал в газете «Правда»: «Народы России доказали миру превосходство над Библией и Богом». Ты так думаешь по-прежнему?
Блики света из окна скакали неяркими пятнами по тусклому пожелтевшему картону фотоснимка. Человек, приговоренный к смерти. Исполнение приговора — через семь часов. Но он еще не знает о приговоре.
Я смотрел внимательно на фотографию, и в меня холодом смерти вползала мысль, что я ошибаюсь.
Я смотрел на лицо Михоэлса, и мне все больше казалось, что он знает. Он знает о приговоре.
Неужели он знал?
Громадная голова. Роденовский размах. Возвышенный урод. Наклонная вертикаль лица увенчана тиарой высоченного лба и покоится на мощном фундаменте могучей и очень живой оттопыренной нижней губы. Крутой разлет бровей сходит в приплюснутый сильный нос борца. Но все это — только шелом, прикрытие, инженерные устройства для пары выпуклых, все понимающих, умно прищуренных глаз.
Они разные — глаза — на этом снимке. Левый смотрит вперед, он еще полон любопытства, надежды, вчерашней властности и силы. Правый — утомленно прикрыт, в нем всеведение и отрешенность.
Соломон всегда повторял актерам: «Глаза это единственный кусочек „открытого“ мозга».
Пожелтевший кусочек картона с одним надорванным углом и ржавыми кружочками от старых кнопок. Что на нем — случайная гримаса комедианта? Или провидение своей судьбы? Или черта предела, за которой уже надо извлекать из этой судьбы урок?
Неужели ты уже все знал?
Осторожно положил фотографию на стол. Взял бутылку и сделал еще крепкий глоток из горлышка, пососал лимон. Надо понять Михоэлса в его последней части жизни, без этого не разобраться во всем произошедшем.
Надо заново продумать все, что известно о Михоэлсе.
Надо вновь прочесть то немногое, что написано. Там должны быть какие-то намеки, недосказанности, все написанное надо читать как шифровку.
Все металось и плыло перед глазами, мой утлый номерок раскачивали волны диких криков из ресторана, всплески музыки, косо просвеченный сумрак слоился облаками — как сегодня днем вздымали клубы некрепкого душистого дыма из длинной прокуренной трубки Наума Абрамовича Шика. Он держал ее, словно флейту, прижимая поочередно к мундштуку толстые белые пальцы, и все время казалось, что со следующей затяжкой он выпустит не струю ватного дыма, а тремоло чистых высоких звуков.
Но трубка только тихо потрескивала, не в силах разразиться волшебным звуком и окутывала Шика клубами прозрачно серой завесы, будто скрывая его от моих надоедливых расспросов.
Крупный, пышно-седой, насмешливо-ленивый, Шик говорил мне севшим стариковским голосом:
— Время сейчас такое, что никто ничем не дорожит. Если это только не наличные. В газете написано, что через могилу Иоганна Себастьяна Баха провели шоссе. А отвернуть немного в сторону им было кисло? Такь?
Он смешно говорил — выкидывая из слов или вставляя по своему усмотрению мягкие знаки. А твердых знаков он, видимо, вообще не признавал.
— А раньше были другие времена? — спросил я. — Сахар слаще, погода лучше?
— Украинский сахар фирмы Бродского был таки слаще, засмеялся Шик. — Я ведь его помню. А теперь мы едим кубинский. Но у меня диабет, а камни гремьят в пузыре, как медьяки в копилке, — меня лично это уже не гребьет. Такь? Хотя имею я в виду другое…
— Я вас так и понял, Наум Абрамович, — заверил я. — Вы говорили о войне…
— Ну да… Как я вам уже говорил, до войны я работал в еврейском театре в Харькове…
— Простите, — перебил я, — значит, я не понял. Вы сказали про работу в театре, но ведь еврейский театр был в Москве?
Шик выпустил дымовую завесу, грустно заперхал.
— Пхе! В Москве! В Москве был ГОСЕТ — главный еврейский театр страны. Нынешнее поколение уже не помнит, что до войны у нас было четырнадцать еврейских театров — в Белоруссии, на Украине, в больших русских городах. Их закрыли, наверное, в честь победы над фашизмом — другого объяснения у меня нет…
— Наверное, — кивнул я.
Шик не спеша продолжал:
— Сейчас мне шестьдесят пять лет, а летом сорок первого мне было двадцать семь, и в мае месяце меня взяли на военные сборы в лагеря. Так что на второй день войны я уже сидел в окопах, а вернее говоря, бежал с остальными от немцев. А мои все остались в Харькове, такь их всех там и убили.