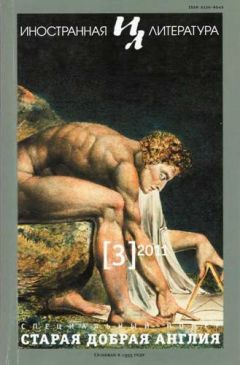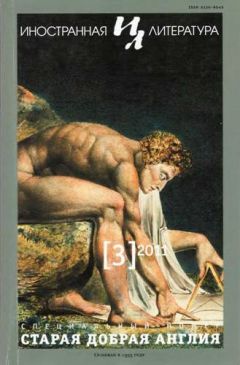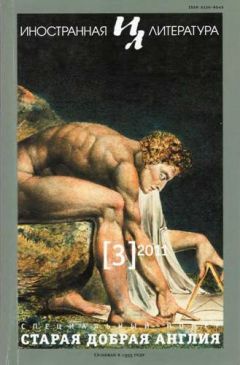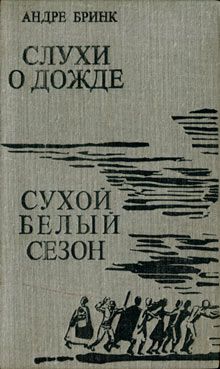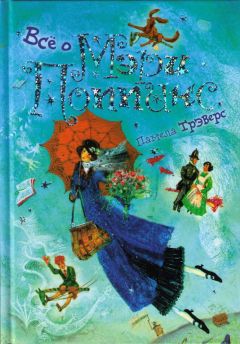Андре Бринк - Сухой белый сезон
— Все помешались на машинах, — презрительно фыркнул Луи со всем ожесточением юношеского романтизма. — Скоро для людей места не останется.
— А кто собирался стать инженером? — спросил я.
— Ты же знаешь, что я послал все это.
— Так что, назад к двуколке?
В дни моего детства многие фермеры в нашей округе еще разъезжали на двуколках. По воскресеньям не меньше дюжины их стояло под перечными деревьями вокруг церкви. Даже тот, кто ездил в город на автомобиле, отправляясь в гости к соседу, по-прежнему садился в двуколку.
Все, что прежде казалось неуклюжим и примитивным, приобрело романтическую патину, когда мне пришлось уехать за границу. (Так же я потом романтизировал свое пребывание в Англии. А разве сейчас, когда пишу эти строки, я бессознательно не искажаю события того уикенда? Не это ли происходит со мной все время, хотя я и убежден в абсолютной правдивости своих воспоминаний?)
Моя ностальгия в те два года в Англии была смягчена дружбой с Велкомом Ниалузой. Ночь в Ламбете, шумная вечеринка. Стояла зима, было холодно. Первый снег выпал за неделю до этого и превратился в мокрую грязь. Я чувствовал себя погано. В кармане у меня было довольно пусто после чрезмерных трат с целью произвести впечатление на мою первую заграничную подружку, которая, несмотря на это, все же сбежала от меня к кенийскому скульптору. Вот дьявол, а я-то думал, что у нее есть вкус. Я пытался успокоить себя, ругая всех англичанок: корчат интеллектуалок, а на самом деле им нужно совсем другое, а тут, уж конечно, не обойтись без черномазых.
Перспектива приятной вечеринки несколько развеселила меня. Спиртного там было более чем достаточно. Скверного и дешевого, но вдосталь. Скопление тел в захламленной квартирке. Как годы спустя на днях рождения у тетушки Ринни. Беа. Нет, в тот вечер был Велком. Среди гостей были англичане, американцы, французы, скандинавы, немцы, греки, японцы и даже несколько поляков и русских. Как мне удалось найти Велкома в этом вавилонском столпотворении? Или в этом не было ничего особенного? Не раз за два года в Англии я бывал поражен одним и тем же: двое людей, уединяющихся на вечеринке, непременно окажутся африканером и африканцем. Странно.
В начале вечера под действием спиртного мое настроение только ухудшилось. Я мрачно сидел в углу, полускрытый занавесом. И тут я услышал:
— Вам, кажется, одиноко?
Сквозь дымку я увидел узкое тощее черное лицо в больших очках, похожее на лицо Чарли, но гораздо моложе.
— Как вы догадались?
— Потому что одинокий человек всегда узнает другого такого же. — Он уселся на пол возле меня. — Давайте выпьем, — Мы говорили по-английски, но, подняв рюмку, он воскликнул на африкаанс: — Ваше здоровье!
— Только не рассказывайте мне, что вы из Южной Африки, — сказал я, бесцеремонно уставившись на него.
— Разумеется, из Южной Африки. А вы тоже? Ах, приятель! — Он расхохотался, и мы перешли на африкаанс.
— Побудь здесь с мое, тогда поймешь, что значит быть одиноким, — сказал он.
— А сколько ты уже здесь?
— Десять лет.
— Чего ради?
— Эмиграция. Без права на возвращение.
— Замешан в политике?
— Был в АНК. Ничего особенного. Ты знаешь, как это бывает. Буры не любят образованных кафров.
Мы наполнили рюмки и вернулись в наше убежище, продолжая говорить без умолку. Все эти «а помнишь», характерные для земляков, встретившихся в чужом краю. Перечные деревья, двуколки, тишина по воскресеньям, гудение базаров, запах горелой древесины зимой, вкус зеленых абрикосов, локвы, сладкого винограда и дынь. Мальчишки, купающиеся нагишом в грязных прудах. Птичьи гнезда, сползающие по склонившимся ветвям ивы и падающие в воду. Черепаха, запеченная в собственном панцире. Драки глиняными комьями. Флюгера на плоских железных крышах. Сладкий картофель. Грязь между пальцами босых ног. Иней на хрупкой зимней траве. Говоришь о том, о чем больше всего тоскуешь. Я рассказал ему о своих самых ранних воспоминаниях: как мать, когда не могла со мной справиться, перепоручала меня заботам старой Айи, нашей черной няни, и та носила меня в одеяле, привязанном к спине, и, завернутый в одеяло, я покоился на ее огромном заду — мое первое и самое отчетливое ощущение безопасности. И как мы с Тео, когда чуть подросли, завтракали вместе со слугами, сидя возле котла и хватая путу прямо руками.
Позже тем же вечером, надравшись до полусмерти, я поведал ему о Жанет, бросившей меня ради кенийского скульптора, а он рассказал мне о Нозивзе, которая осталась дома, хотя он полностью выплатил за нее лобола; он думал, что она последует за ним при первой же возможности, но почему-то этого не случилось. Да, решили мы с ним, мужчине нелегко обходиться без женщины.
Когда он заметил, что я уже очень пьян, он обнял меня за плечи и вывел на улицу. Ледяной ветер валил с ног. Он взял такси и настоял на том, чтобы отвезти меня домой. Что оказалось нелишним, ибо, как выяснилось, я забыл свой адрес. Остаток ночи я помню весьма смутно. Не знаю, сколько времени мы колесили по Лондону в поисках дома с черными колоннами. В конце концов Велком велел водителю остановиться, так как сумма на счетчике совпала с той, что была у него в кармане; что случилось с моими деньгами, неизвестно, мой бумажник бесследно исчез. И нам пришлось брести пешком откуда-то из северной части города, где мы вылезли из такси, в его обитель в Степни. Зимняя заря уже занималась, когда мы наконец добрались до его жалкого жилища. Как он, такой тощий, ухитрился протащить меня всю дорогу почти что на себе, уму непостижимо. Едва мы вошли в его комнатенку, я грохнулся на пол. Он, должно быть, уложил меня на кровать; проснувшись, я увидел сквозь грязное окно тусклое зимнее солнце, а Велком сидел в ногах развороченной постели с чашкой чая на коленях.
Мы стали неразлучны. Мой друг по имени Белком Ниалуза. Что-то я очень расчувствовался насчет него: по-видимому, теперь его очередь быть идеализированным моей памятью. Но мы действительно были друзьями. Одно время, когда меня вышибли из моей квартиры, я делил с ним его клетушку, пока не подыскал себе жилье. К тому же он был моим ментором, заставляя читать то, к чему бы я сам и не притронулся: не только книги по экономике и политике, но романы и даже стихи — последний раз в жизни, когда я этими занимался. Белком уже получил степень доктора и преподавал. Мне вспоминается невероятно широкий круг его знакомств: от бродяг до ядерных физиков, от скульпторов и художников до палеонтологов, от банковских клерков и мусорщиков до владельцев «мерседесов».
Узнав об Элизе и о моих опасениях насчет нее и Бернарда, он был тверд: «Ничего раздумывать. Ты должен вызвать ее сюда. Хватит того, что один из нас уже потерял женщину в такой передряге».
Я в свою очередь изо всех сил старался помочь ему получить разрешение возвратиться на родину. Но по случайному совпадению в тот самый день, когда от Элизы пришла телеграмма, извещавшая о ее приезде, ему окончательно отказали в нашем посольстве. И так получилось, что он никогда не встретился с Элизой. Он был приглашен в Станфорд (он всегда был завален приглашениями со всех концов света) и за неделю до ее прибытия покинул Англию. В день его отъезда я во второй — и в последний — раз за все время за границей напился до бесчувствия. И снова Велком был со мной. Мне было так плохо, что он едва не опоздал на самолет.
Мы пообещали друг другу, что он прилетит на мою свадьбу, а потом мы с Элизой навестим его в Штатах. Но ни то, ни другое не состоялось. Наша переписка постепенно увяла и умерла. Со мной происходило нечто странное: за все месяцы нашего общения я ни разу не задумался о том, что он черный. Единственный случай в моей жизни, когда это действительно не имело никакого значения. Но, как только приехала Элиза, я почувствовал в себе какое-то предубеждение. Порой, начав рассказывать ей о нем, я сам прерывал свой рассказ, прежде чем она начинала проявлять к нему интерес. Они почему-то для меня не сочетались.
Помню его последнее письмо через три месяца после нашей свадьбы. Он напоминал о моем обещании приехать вместе с нею в Штаты. Я чувствовал себя виноватым, не из-за того, что нарушил обещание, а просто из-за самой необходимости знакомить их. Я ничего не сказал Элизе об этом письме. Я так и не ответил на него. Впрочем, это не имело значения, ибо несколько месяцев спустя я прочел небольшую заметку где-то в середине газеты о южноафриканце Велкоме Ниалузе, упавшем с верхнего этажа здания в Нью-Йорке и разбившемся насмерть. Предполагали самоубийство. Как уж тут надеяться понять душу ближнего своего?
* * *
В гостиной продолжалась беседа, внешне спокойная, но с каким-то подспудным напряжением. Женщины образовали свой маленький кружок, беседуя о слугах, ценах, воровстве и растущей дороговизне. Луки начинала каждую свою фразу словами: «Герт считает, что…», «Герт говорит, что…» или «Я спрошу Герта».