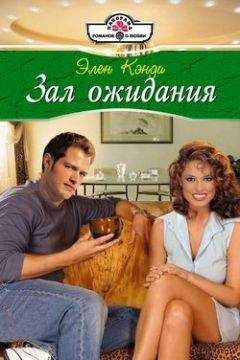Георгий Осипов - Конец января в Карфагене
продекламировала она, и себе ответила откуда-то снизу, глухим и далеким голосом:
«Не люблю, когда скверные поступки сопровождаются скверными шутками».
Сермяга, привычный к сменам настроений своей спутницы, дипломатично протянул ей последний чинарик с фильтром.
— У кого б подкурить? — со вздохом огляделся он. Жаль было щелкать лишний раз одноразовой зажигалкой.
— Если ты имеешь в виду его «Завещание», — как ни в чем не бывало, вернулся к теме Сермяга, покамест Нора, втягивая щеки, досасывала сигарету, прикуренную им у какого-то господина с чемоданчиком, — то я от него не в восторге.
— Он попросту озвучил его твоими устами, Саня. Как Толя Папанов волка в «Ну, погоди!». Хотел тебя скомпрометировать…
— Я так не думаю, Нора.
— Тогда почему, скавы мне — когда она начинала нервничать, к ней возвращался давний дефект речи, — с какой стати «Завещание» человека по фамилии Самойлов обязан пересказывать человек по фамилии Данченко?
— Гражданин Данченко.
— Пуфкай гравданин, какая равница.
— Да я его только тебе и пересказывал. Обожди, как же оно у него там: «Тогда бы не было улицы Маросейки, где жила девочка Гуля Королева, не было бы «экспорта марксизма» и спецопераций в Латинской Америке, парадов громыхающей рухляди, напоминающей старух на нудистском пляже… Тогда бы Ивану Московскому пришлось выбирать себе другое сценическое имя, потому что не было бы Москвы!»
— А это что за персонаж? Он-то чем провинился?
— Кажется, певец был такой. Давно. Не помню, блять-нахуй-блять, точно. Слухай дальше: «Одно хорошо — все они были собраны Отцом Иосифом…»
— Понятно — это Сталин. А чем ему не угодила бедная Гуля Королева? Мне кавется, мой кувэн был настоящим чудовищем. Откуда у него столько злости?
— Тем, что ее запомнили, а его — никто. Слухай дальше: «… собраны в одном окаянном месте, которое Гари Трумэн должен был стереть с лица Земли во имя будущего людей доброй воли. А возникшую в результате взрыва воронку переоборудовать в громадный (для всей планеты) очистительный колодец, откуда никто уже не всплывет».
— Ужас! — вымолвила Элеонора голосом узнавшего правду оперного Риголетто.
* * *Взрослые, похожие на экипаж космической станции, смотрели по телевизору многосерийных «Отверженных» — Сергей Михалыч, Евгений Николаевич и Семен Рувимыч. Когда Жан Вальжан снизу поднимает тяжелую решетку сточной канавы, один из гостей вполголоса произносит:
«Здоровый, чорт». Это — Семен Рувимыч. Хозяин дома. Сергей Михалыч тут же поясняет: «Политкаторжанин», а Евгений Николаевич хриплым, прокуренным голосом начальника одобряет: «Сильная рука». При этом у него правой руки нет почти по локоть.
Самойлов смотрит сквозь них на экран, сознавая, что и спорт, и труд всю жизнь будут ему одинаково неприятны, и надо бы позаботиться, чтобы оба занятия стали ему противопоказаны на законном основании.
В раздвоенном обрубке у «дяди Жени» дымит длинная «Феодосия». Самойлову видится рука утопленника или кадавра — она вращает глобус, стирает тряпкой с доски уравнения, протягивает откупоренную бутылку, к которой он уже не раз прикладывался.
Мальчика раздражало непонятное ему ожидание этих пожилых мужчин. Чего они выжидают, почему не накрывают стол? В холодильнике стоит полная миска «оливье». В кладовке — две поллитры и сайра (неоткрытые консервы принято держать не в холодильнике, а просто в «темном, сухом и прохладном месте» — это он усвоил, ведь его учили читать по надписям на этикетках). Сегодня утром он собственными глазами наблюдал, как бабушка чистила «ежиком» и вымывала теплой водой пустую банку из-под майонеза. Баночный майонез — дефицит, без серьезного повода им ничего не заправляют. Ценнее его, пожалуй, только лимоны… почему от него скрывают, какой сегодня праздник? И почему не дымятся папиросы? «Давно остыли эти печи…» Все это мне снится…
Самойлов осуществи свою давнишнюю мечту — задремал на скамейке. Трезвый, как стеклышко, не имея при себе ни сигарет, ни зажигалки, одетый по погоде в изношенные, но теплые вещи, он надеялся, что ему приснится плутовской сюжет в духе комедии «Оскар» и его разбудит собственный хохот, а пришлось стать свидетелем чего-то загадочного и необъяснимо скабрезного.
Баночный майонез.
«Нет ли у вас хорошего баночного майонеза?» — «Баночный майонез в наше время — дефицит».
Он знавал молодцев, которые рубали эту приправу целыми банками. Тот же Мельник со слов Сермяги. Или первый оргазм ученика Заднепровского (Самойлову почему-то хотелось сказать «гимназиста Заднепровского»), когда тот, сообразив, что съел слишком много, в страхе перед родительским наказанием ощутил внезапное возбуждение и воспользовался им, чтобы скрыть следы преступления, разбавив драгоценный продукт полудетскими кубиками своих выделений… Безобидные грехи, маленькие страхи. «Маленькое счастье, разрешите, месье? Ву сперме тэ, месье?»
Самойлов зевнул — жить бы и жить той тихой жизнью. «Благословенно место, где нет места ни подвигам, ни рекордам, ни открытиям…»
Он надел очки.
«… ни шедеврам», — добавил он, вставая со скамьи.
* * *— Шо оно так долго не темнеет? — равнодушно поинтересовался Сермяга. — Заснуло или шо?
Элеонора молча смотрела на него застывшим взглядом. Время будто и в самом деле остановилось. Их почему-то никто не торопил расходиться по корпусам. Они были настолько поглощены друг другом, что и не обратили внимания на то, как за решетчатыми окнами появился свет.
— Знаешь, о чем я мечтаю, Сафа? — нарушила молчание Элеонора, и Сермяга сразу догадался — она хочет есть.
— О чем?
— О большой миске «оливье». С майонезом, и кубиками… Да-да! Кубиками отварного мяфа. Мы вот такенную приготовили с мамой, когда мой папа стал доцентом.
«Мельник хавал майонез банками, — подумал Сермяга. — И другим советовал это делать».
— Если честно, лично я завязал думать о деликатесах, — ответил он как можно спокойнее, раздумывая, успеет или нет вручить своей подруге небольшой презент. — Музыку иногда охота послушать.
— Мне тоже. Как ты думаешь, Олег Ухналев еще выступает?
— Не знаю. Кажется, кто-то говорил мне, что он умер.
— Такое мог сказать только наш всезнающий Сэмми.
— Значит, он давно умер.
— Не будем о грустном.
— Я и не грущу… Слышь, Нора!
— Я здесь.
— Рассказывал я тебе, чи не рассказывал? Короче, жил со мной сосед Дядя Коля. Тот, шо орал про меня: «Я этого Фантомаса зарубаю»! Сколько я к нему ни ходил бухать, никак не мог понять, почему это у него в туалете лампочки нет. Причем постоянно… Не знаю, как у вас, а у нас в квартирах, если с кухни заглядываешь, видно все, что происходит на параше. Совмещенные санузлы, блять-нахуй-блять… Шо я однажды и сделал. Поставил табурет, пока он… какает, и заглянул. Дядя Коля сидит на унитазе и дуется. А чем сильнее он дуется, тем светлее делается в уборной от его раскаленной — вот такой головы! Зачем ему платить лишнее за электричество, если он сам человек-лампочка.
— Человек-лампочка… — задумчиво повторила Элеонора (она уже слышала эту историю), и вдруг запела, старательно выговаривая английские слова: — Lamplight Keeps on Burnin’… Как я бы хотела сейчас послушать, это — «Би Джиз», мы их так с Сережкой любили, ты не представляешь, как они нам нравились. Больше Битлов.
— Та чего ж не представляю? — Представляю. Только где ты их здесь и сейчас послушаешь?
Нора снова погрузилась в молчание.
— Кто не успевает за тем, что хорошо, опережает в хуевом. И это касается всей нашей музыки, — сентенциозно промолвил Сермяга, трогая пальцем небритый подбородок.
Он пытался размышлять о судьбе общего и давнего знакомого, чье имя служило единственным звеном, связующим Сермягу с Элеонорой. Мысли расплывались и таяли на кончике готового их выразить языка. Безумно хотелось закурить.
— Не помню, говорил я тебе или нет, — неясным голосом все же начал он, — шо у нашего друга бывали галлюцинации, и еще какие? Шо касается музыки, например, он боялся дослушивать до конца «Шэйдс оф Дип Пёпл».
— Это же детская пластинка, — фыркнула Элеонора. — Ему казалось, что после последней вещи… Иногда… Не всегда… Кто-то его куда-то зовет. То позовет, то — не позовет.
— После последней вещи там действительно что-то было.
— Он постоянно ждал, когда хлопнет дверь.
— И вспыхнет «фиолетовый свет».
Торжественный тон, с каким были сказаны Норой последние слова, смутил Сермягу. Он как-то обмяк, быстро изнуренный попыткой измыслить и произнести вслух что-нибудь оригинальное. Они давно говорили друг другу одно и то же, придуманное и заученное «до болезни». Так же он робел, отвечая у доски, и злился на учительницу, не замечавшую, насколько ему трудно. Он молчал, как случайный попутчик в ожидании своей станции. Прогулка слишком затянулась. Зря они это позволяют. То — карантин, то — выгоняют. Чтобы остановить поток тяжелых мыслей, он из последних сил лихо бросил: