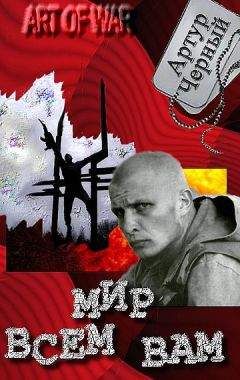Наталья Галкина - АРХИПЕЛАГ СВЯТОГО ПЕТРА
Царь Петр подарил остров любимой сестре Наталье Алексеевне, назвав его островом Святой Натальи, но сестра прожила недолго; хозяином острова стал граф Христофор Миних, требовавший, чтобы остров впредь называли Христофоровым. Последующие хозяева, графы Разумовские и князья Белосельские-Белозерские, ничего такого не требовали, и он снова стал Крестовским, - то ли из-за некогда находившегося в центре его озера крестообразной формы, то ли из-за найденного на острове креста, подобного „кресту Трувора" в Изборске, то ли из-за древней часовни с крестом, стоявшей тут в шестнадцатом веке, то ли попросту из-за пересекающихся крестообразно основных островных просек.
Полагаю, хозяева острова знали о нем то, чего мы никогда не узнаем. Ходят слухи, что о какой-то загадочной истории на Крестовском рассказывала княгиня Белосельская-Белозерская, побывавшая в Стамбуле, своему мужу Михаилу Афанасьевичу.
Говорят, тут бродят некоторые литературные привидения, и в начале белых ночей Шельга и инженер Гарин отдирают доски с окон давно не существующей заколоченной дачи».
Цветной кусок прожитого бытия, связанный с началом соревнований, совершенно стерт из памяти моей и невосстановим, о чем жалеть бессмысленно и не стоит. Я только помню: он был цветной необычайно, яркие флажки на флагштоках, майки алые, куртки голубые... и катера… и воздушные шары… и пестрые платья…
Настасья вскрикнула, я обернулся, передо мной стоял человек с красной авторучкой, он чиркнул меня авторучкой по кисти руки, но между нами, опередив бросившегося ко мне Звягинцева, возникла разделяющая нас полоса зеленцы, зелена была трава, зелен воздух, издали по этой меже бежал Бригонций, как тогда, к Фонтанке, взмахивая руками; на сей раз он что-то кричал, я понял только: «Basta, basta!» - но он был слишком далеко. Все заняло несколько секунд, но секунд растянутых, длящихся бесконечно долго. Маленький человек в черной ветхой одежде, в странной шапке, узкоглазый, узкобородый отвел от моей руки красную авторучку Макса, провел тыльной стороной ладони по царапине, я чувствовал стремительный жар прикосновения сморщенной ладони маленького ламы; Звягинцев заслонил меня, пытаясь выхватить стило, превратившееся в стилет, - вероятно, неловко, я увидел кровь на его ладони, лама провел рукой и по ладони Звягинцева. Пропал коридор, зеленая воздушная толща, по которой, крича, все еще бежал Бригонций, пропали бегущий и лама, стремительно удалялось все, окружающее меня. Я отключился плавно, не помня падения, просто перейдя в другое измерение.
То был мой первый уход. Потом знавал я и другие: лечение зубов под общим наркозом, большая полостная операция, мелкие улеты после приема снотворного. Уход на Крестовском был необычайно хорош. Я отчасти понимаю поколение слабаков, выбравшее наркоту, это их неутолимое желание дать дёру, понимаю «черных», «белых», любителей и любительниц «экстази», полутрусливых приверженцев курения гашиша; вялое поколение, лишенное жизненной силы и чувства игры, не способное без «экстази» впасть в экстаз, искренне считающее, что, ежели иметь друг друга задом наперед вниз головой, хлобыстнув мухоморного отвара, почувствуешь хоть что-нибудь, достойное клички «кайф», подобие подобия, жалкий отсвет того, что чувствовал я когда-то, хватая Настасью за плечи в хлещущей осенней листве полупустого темного дождливого сада, чтобы, притянув ее к себе, целовать ее карамельные нонпарельные, слегка прокуренные губы.
Свод источал светло-голубое сияние, я так сразу и понял: небесный свод; однако солнце отсутствовало, лазурь светилась изнутри. Лама прятал кисти маленьких узких рук в широкие рукава. Я спросил его - откуда он, вспоминая Настасьин рассказ о буддийском храме напротив Каменного острова.
– Десять лет я не мог найти дорогу назад, а теперь позабыл, откуда пришел.
– Куда мы идем? - спросил я. - Где мы? Что это?
– Вечность безбрежных просторов: один день ветра и луны.
– Но… - робко возразил я, - тут нет ни луны, ни ветра…
– В корзине Бездонного покоится ясная луна. В чаше Безмыслия собирается чистый ветер.
– Мне очень нравится ваша речь, хотя не все мне понятно, - сказал я. - Но я чувствую, что вы человек незаурядного ума.
Он слегка улыбнулся.
– Ни незаурядный ум, ни талант, - сказал он, - не есть достоинства настоящего человека. Достоинства настоящего человека неприметны.
– Что хотел сделать… Максим… тот, с авторучкой? Убить меня? Его авторучка наполнена ядом?
– Яд иногда лечит, - сказал лама. - Когда жизнь складывается наперекор нашим желаниям, мир вокруг нас подобен лечебным иглам и целебным снадобьям; он незаметно врачует нас. Когда мы не встречаем сопротивления, мир вокруг нас подобен наточенным топорам и острым пикам: он исподволь ранит и убивает нас.
Он растворялся, тускнел, я видел сквозь него голубизну, он собирался оставить меня одного, мне стало страшно.
– Куда ты?! - вскричал я.
– Мой путь лежит за краем голубых небес, - там, где белые облака плывут неостановимо.
– Не уходи! Поговори со мной!
Он растворился в воздухе.
Стоя в осенней траве под светящимся сводом небесным, услышал я его голос ниоткуда:
– Речь - клевета. Молчание - ложь. За пределами речи и молчания есть выход.
Я лег на траву, уснул и увидел его во сне: он звонил в колокольчик, кивал головою. Я проснулся.
Передо мной на сухой траве сидел, поджав ноги, Нагойя Исида (или Исида Нагойя?) и ел свою любимую вяленую рыбу. Он протянул и мне рыбину, спрашивая, не присоединюсь ли я к его трапезе?
Я отвечал - да, люблю, присоединюсь, благодарствую.
Он покивал, довольный.
– Не взять то, что даровано небом, - сказал он, - значит себя наказать.
Рыба его по вкусу напоминала воблу, салаку и снетки одновременно.
– Когда вернешься туда, откуда пришел, - сказал Исида, - не говори ей, что видел меня и ел со мной рыбу; ей почему-то не нравится, что я ем у нее во сне.
– А я вернусь?
– Вернешься. Все боги за тебя и призраки твоих краев за тебя. Ты лучше ей скажи: видел звездочета из рода Абэ, говорил с ним о высоком. Пусть порадуется.
– О чем, спросит, говорил? Она любит детали.
Исида Нагойя покивал понимающе.
– Все женщины любят детали. Скажи: беседовали об изобретениях Китая. Что изобрели китайцы? Порох, бумагу, веера, корзины, фарфор. Порох превращается в дымок, бумага горит и рвется, фарфор бьется, он хрупок, веера истлевают и не переживают своего времени, однако они нагоняют ветер на лица женщин, а корзины сплетены из ивовых ветвей, не выдерживают груза, ломаются, их жгут; однако вечен ветер в ивах, фарфор сделан из глины, то есть из праха людей и животных, некогда населявших Землю, на бумаге пишут о вечном, на ней рисуют горы и травы, пока есть войны, живет порох, уж я не говорю о фейерверках, о празднествах толп.
– Да я в жизни не запомню, что ты сказал.
– Я понимаю: кроме всего прочего, она ценит в тебе и скромность. Не запомнишь это, расскажешь что-нибудь другое в таком духе. О бумажных стенах японских домов, например. О домах на сваях. О временном, которое постоянней постоянства и потому вечно. О слабости, в которой столько силы.
– Я уже и эти твои слова забыл.
– Тогда ты тот самый, о котором мечтал мудрец, сказавший: «Где найти мне забывшего все слова человека, чтобы с ним поговорить?»
– Почему здесь нет солнца? - спросил я.
Он не ответил.
– Здесь всегда осень? Или и цветы цветут, и снег идет?
Он не отвечал.
– Пора тебе обратно, - сказал он, доев свою воблу вяленую, - в твои Восемь пустынь, где из гнилушек рождаются червячки.
– Да я отродясь в таких местах не жил! - вскричал я. - Ты что-то путаешь.
– Я так называю Землю, земной мир, ничего я не путаю, просто у разных людей одни и те же веши называются разными словами. Кстати, знаешь, чего я понять не могу? почему на ваших с ней островах стоят храмы богам из других мест? Скажем, маленький золоченый буддийский храм по дороге в город напротив острова с дворцом. Или восточная мечеть цвета утренней бирюзы. Храмы богам устанавливаются в местах, где эти боги обитают. Если в данном месте обитает богиня любви, для чего, спрашивается, ставить там сфинкса?
На слове «сфинкса» я поменял дислокацию, открыв глаза на больничной койке, увидев белый потолок, капельницу, сестру, поправляющую у меня в вене канюлю с наклейкой, а также сидящую подле меня Настасью, в белом халате, бледную, испуганную, заплаканную.
Настасья сказала сестре:
– Он пришел в себя. Может, я схожу за доктором?
– Доктор скоро сам подойдет, все хорошо, не волнуйтесь.
Сестра ретировалась неслышно. Я сказал Настасье, отчитываясь:
– Видел… Абэ… говорили… о высоком… о веерах и корзинах… и пустынях…
– Молчи, молчи, - сказала она. - Лежи тихонько. Потом расскажешь.