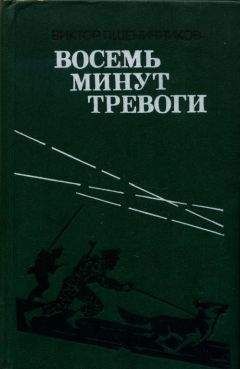Пол Расселл - Недоподлинная жизнь Сергея Набокова
По лицу Володи пробежала брезгливая дрожь.
— Что бы это ни значило, мне ничего похожего не снилось никогда, — сказал я.
— Приятно слышать. Было бы слишком противно, если бы то же самое снилось и тебе. Одна из ужасных особенностей моего сна — знание, что кровь, которую мы разделяем, заставляет нас разделять и сны, и мысли, и чувства. Или, по крайней мере, делает нас восприимчивыми к… Мне, кстати, ни в малой мере не интересно, что вывел бы из этих случайных залпов коры моего мозга венский шаман с его учениками, — и тебе я интересоваться этим не советую.
Теперь улыбнулся я — хотя улыбка у меня получилась, должен сказать, встревоженная. Мне пришла в голову одна мысль. Правильнее сказать, влетела в нее, и со значительной силой.
— Время от времени, — сказал я, — мне тоже снятся сны, которых я до сей минуты не понимал. Теперь в них обозначился определенный смысл.
Произнося это, я почувствовал, что в зал ресторана вошел некий человек, усевшийся, как то и было задумано, за соседний с нашим столик. Я сидел спиной к нему, однако лицо Володи он мог видеть ясно, — как и Володя, появись у него такое желание, мог разглядывать лицо новопришедшего.
— Это очень серьезный сон, — продолжал я, — всякий раз немного меняющийся. Не столько возвратный, сколько разворачивающийся постепенно — в течение многих уже лет, но без какой-либо системы.
Коротко говоря, мне снится, что я оказываюсь в обществе Бога. Бог всегда принимает в моем сне новое обличье: один раз Он выглядел совсем как Михаил Фокин (Володя хмыкнул), в другой на Нем был военный мундир отца, в третий — смокинг. Говорит Он уклончиво, похоже, впрочем, что Богу это присуще. Однако общая суть Его высказываний остается одной и той же. Он хочет попросить у меня прощения за то, что ко времени моего сотворения у Него закончились души и Ему пришлось вложить в меня поддельную, — неосмотрительный поступок, исправить который не по силам даже Ему.
Я никогда не верил, что в моих снах мне является настоящий Бог. Временами я думал, что это дьявол пытается сыграть со мной шутку. А иногда полагал, что мы просто-напросто видим те сны, какие внушает нам собственная наша природа. Но вот теперь задумался, не тебя ли я всякий раз видел в том сне?
— Что за странная мысль, — удивился Володя.
— Ничуть не странная. Стремление узнать тебя до конца — и невозможность такого знания. Ощущение, которое лишь подтверждается чтением твоих поразительных книг, что ты всегда укрываешься под той или иной личиной. И если я не могу узнать тебя, любимого брата, плоть моей плоти, сердце моего сердца, душу моей души, тогда что же во всей вселенной я способен узнать? Потому что с самого начала мои попытки узнать тебя срывались — полностью, сокрушительно, одна за одной…
Володя посмотрел на часы:
— Как это ни интересно, Сережа, боюсь, мне пора. Я должен заскочить к Нике, забрать мой чемодан и успеть добраться до Gare du Nord[143]. Человеческий разум — это заросли, в которых сидит птица одной с ними раскраски. А «реальность» порою лишается своих кавычек. Мне очень понравился наш разговор. Когда я вернусь в Париж, — надеюсь, это случится очень скоро, вернусь с Верой, и ты с ней наконец познакомишься, — мы непременно продолжим нашу с тобой легкую дружескую беседу.
Он опустил на стол скомканную салфетку и начал подниматься из кресла.
— Ты заплатишь по счету?
— Подожди, — попросил я. — Заплачу, конечно, но…
В голове моей закружились лишь наполовину додуманные, необузданные мысли, меня пронзило сознание того, что мы успели коснуться далеко не всего из заполнивших тридцать лет молчания, пренебрежения, непонимания.
— Есть кое-что еще. Удели мне пять минут. Я уже говорил — самое большое мое желание состоит в том, чтобы ты узнал меня так, как знаешь всех других…
— Обилием друзей я похвастаться не могу, — сказал Володя.
— И все же мне хотелось бы познакомить тебя с моим… моим… моим мужем.
(Лучшего слова я в моей унизительной спешке найти не сумел.)
Володю это предложение застало врасплох.
— С кем? Где?
Я обернулся, указал на сидевшего за соседним столиком мужчину, и тут уж заикание напало на моего брата.
— Как? Он все это время подслушивал нас? — гневно спросил Володя.
— Ничуть. Он только что появился. И не знает ни одного русского слова.
— А у вас на шейке паук, — по-русски сказал мой брат Герману.
Герман, разумеется, ничего не понял и лишь протянул Володе руку. Володя тем же ему не ответил, но, похоже, остался доволен. Я погадал, кто бы мог научить его этому вполне шпионскому фокусу[144].
— Ну хорошо. Какой же язык он, в таком случае, знает? Французский?
— Французский, — ответил я, — и немецкий. Его имя — Герман Тиме.
Рука Германа так и оставалась протянутой, на лице его застыла неуверенная улыбка.
— Надо же, — сказал, все еще по-русски, Володя. — Немец. Сначала ты обращаешься в католичество. А теперь еще и в hausfrau. Как всегда, полон сюрпризов, не так ли?
Он повернулся к совсем уже потускневшему Герману и произнес по-французски, с сильным акцентом:
— Ну, здравствуйте.
— Очень рад знакомству с вами, cher maître, — ответил Герман с пылом, напомнившим мне наших альпийских овчарок.
— Взаимно, — ответил Володя.
— Видите ли, я давний поклонник ваших произведений. Тех немногих, какие еще можно найти на немецком языке.
— Мне говорили, что переведены они ужасно.
— Может быть. Но все равно производят удивительное впечатление.
— Вскоре вам представится возможность увидеть их покалеченными также и на французский манер. Если вы питаете к ним подлинный интерес, вам, полагаю, лучше выучить русский язык. Не сомневаюсь, мой брат с удовольствием станет вашим наставником. Что привело вас в Париж, герр Тиме?
К брату снова вернулась обычная его холодность манер. А я, не только оглушивший его известием о существовании моего «мужа», но и навязавший знакомство с Германом, почувствовал себя дураком.
Однако Германа ледяная вежливость Володи не напугала.
— Я довольно часто приезжаю сюда по делам, — объяснил он.
— И хорошо они у вас нынче идут? Выглядите вы как человек обеспеченный. Намного лучше типичных немцев, которых я теперь встречаю в Берлине.
— Я, собственно, австриец. Хоть это и не великая разница.
— Нет, полагаю, не великая. И все же, насколько я понимаю, сегодняшним великолепным обедом я обязан вам. Если так, спасибо. Меня… — Володя замялся в поисках слова; французский его был не очень хорош[145]. — Меня утешает мысль, что мой младший брат попал в такие хорошие руки. Мне было неспокойно за него. Он слишком легко уступает лености.
Брат еще раз взглянул на часы:
— А теперь, прошу меня простить, мне действительно пора.
Он пожал Герману руку, повернулся ко мне, и я обрадовался, представив, как он сейчас обнимет меня и расцелует на русский манер, однако сделать это ему помешал пронзительный голос:
— Mon cher! Наконец-то я вас изловил. Так это и есть новое логово, в котором вы укрываетесь? И «Le Sélect» в число ваших избранников уже не входит?
Кокто держался за мускулистую руку Деборда, бывшего, при всех его поэтических потугах, не более чем миловидным юным бандитом. Рядом с ними возвышался Бебе Бернар — веселый, всклокоченный, заляпанный краской. Вид у всей троицы был дремотно-затуманенный.
— Это немецкие происки, — заявил Кокто, указав тростью на Германа. — Я официально обвиняю вас в том, что вы сбили нашего голубчика с пути. Встретимся в Тюильри, на рассвете. Подберите себе секунданта. Возможно, этот элегантный господин согласится… Постойте! Ангелы удостоили меня откровения. Вы, надо полагать, не кто иной, как прославленный брат Сержа. Мне говорили, что вы в Париже и приводите в восторг эмигрантов. Слухи здесь распространяются быстро. Париж очень маленький город.
Я увидел, что натиск очаровательного Кокто заставил Володю поежиться, я очень хорошо знал появившееся на его лице выражение неловкости.
— Ваша догадка верна, — сказал он. — Сожалею, но времени на знакомство с вами у меня нет, я опаздываю на поезд. До свидания, Сережа. Оставляю тебя твоим друзьям.
И он бежал — совершенно как респектабельный господин, ненароком забредший в публичный дом. Ни объятий, ни поцелуя, ни даже дружеского прикосновения[146].
— Он всегда такой пугливый? — поинтересовался Кокто.
— Люди нашего разряда действуют ему на нервы, — объяснил я. — Я иногда гадаю, не объясняется ли это чем-то пережитым им в прошлом. Правда, с годами он несколько смягчился.
— Кстати, я отменяю мой вызов, — сказал Кокто Герману. — Он был всего лишь легкой демонстрацией галльского остроумия. У вас, немцев, имеется чувство юмора? Мне не хотелось бы заставлять вас одиноко ожидать меня в холодном утреннем тумане — с на славу смазанным пистолетом в руке и свинцом в сердце.