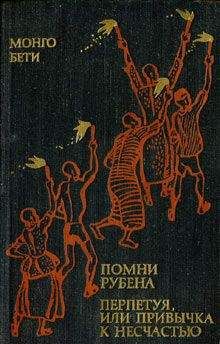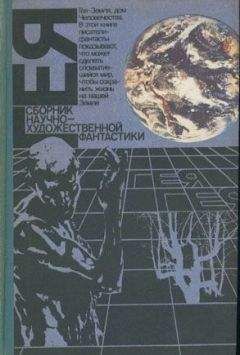Монго Бети - Помни Рубена. Перпетуя, или Привычка к несчастью
Поэтому начиная с 1962 года власти, пытаясь окончательно сбить с толку народ, хранивший вопреки преследованиям верность памяти Рубена, по наущению французских психологов — советников Баба Туры — стали трубить о том, что жесткие меры властей сыграли свою благотворную роль и обеспечили умиротворение умов, и отныне царившая здесь атмосфера вызывала в памяти тех, кому довелось жить в те благословенные времена — начало пятидесятых годов: вернувшись, как говорится, к истокам, люди старались не выходить за рамки освященных традициями забот, они не только стали чураться политики, точно проказы, благоразумие (столь типичное для банту) заставляло их теперь избегать даже политических тем в разговорах, что со всей неоспоримостью предвещало возврат былого благополучия.
— Эй, молодой человек! Молодой человек! Молодой человек…
Он очнулся от того, что какая-то женщина, уже увядшая под бременем лет и тяжких трудов, коснулась его руки.
— Сын мой, не тебя ли зовет этот белый? — с испугом спросила она.
Устав кричать, шофер — это был мужчина атлетического сложения, по всей видимости грек (так уж исстари повелось, что в Нтермелене все шоферы были греки), — подскочил к Эссоле и, показывая на старый деревянный чемодан, спросил рассеянного пассажира:
— Это твой?
— Мой, — не сразу ответил Эссола.
— Садись, — приветливо сказал водитель и устремился к кабине. Он поставил чемодан рядом с собой — так, чтобы он не мешал переключать рычаг скоростей. — Садись вот сюда, рядом со мной, — предложил он Эссоле, покорно следовавшему за ним. — Так мы сможем поболтать. Я видел, как ты садился в Ойоло, только на этом месте тогда сидел один старик, он после операции. Крутить баранку и ни с кем словом не обмолвиться — это не по мне, я, видишь ли, люблю поболтать. Только сам посуди, легко ли по нынешним временам найти кого-нибудь, с кем можно душу отвести, особенно в этих краях. Все чего-то опасаются, каждый боится рот открыть, можно подумать, будто какой запрет вышел.
Не умолкая ни на минуту, шофер включил мотор, крутанув рукоятку, торчавшую рядом с рычагом скоростей. Тяжелый автобус тронулся с места, Эссола качался из стороны в сторону на своем мягком, непонятным образом подвешенном сиденье, переваливаясь с боку на бок, словно захмелевший человек, раскачивающийся в такт тамтаму. Столь неожиданное предложение шофера позабавило его, вызвав невольную улыбку, которая, впрочем, тут же исчезла.
Выехав из Нтермелена, они углубились в чащу сумрачных лесов; кроны высоких деревьев, точно зеленый свод, смыкались над дорогой, а но обеим сторонам то и дело мелькали деревни, которые поразили Эссолу своим запустением. На скатах растрепанных соломенных крыш виднелись большие щели — явное свидетельство нерадивости хозяев. Белая известка местами осыпалась, обнажив коричневую штукатурку глинобитных стен, похожую на запекшуюся кровь. Деревянные ставни хлопали под порывами ветра. Козы и бараны, сгрудившиеся на террасах, невозмутимо пережевывали свою жвачку. Можно было подумать, что жители этого края внезапно покинули свои дома и в ужасе бежали, почуяв приближение опасности.
Вслед за одной призрачной деревней появлялась другая, и всюду то же запустение. Время от времени какая-нибудь старуха в лохмотьях, тащившая за собой голого ребенка, едва научившегося ходить, оборачивалась, услышав шум автобуса, но тут же теряла к нему всякий интерес. Чаще всего на дороге встречались мужчины среднего возраста, они лениво разгуливали вдоль шоссе, но, едва заслышав урчание мотора, торопливо разбегались, испугавшись неведомо чего, и отваживались выйти снова лишь после того, как автобус скрывался из виду.
— Просто диву даешься, глядя на этих парней, — заметил водитель. — Пока их жены вкалывают, они себе преспокойно разгуливают, им и горя мало. Наверное, и взяться ни за что толком не умеют. А знаешь, почему они вот так вечно толкутся на дороге? Заходят выпить то к одному, то к другому — и так у них проходит вся жизнь. А знаешь, что они пыот? Пальмовое вино или «каркару», а чаще и то и другое вместе.
— «Каркару»? — удивился Эссола.
— Ну да, сами и гонят сивуху, у них даже перегонные кубы есть. При колониализме они делали это тайно: полиция боролась с этим бедствием —.для их же собственной пользы. А при Баба Туре никто уже не стесняется и самогонку гонят чуть ли не в открытую. И яд этот отравляет страну прямо-таки на глазах, мужчины гибнут, можно сказать, на корню. Да, да, старик, ведь в самой обычной «каркаре» не меньше шестидесяти, а то и все семьдесят градусов, при такой жарище любой крестьянин через несколько минут готов.
— Да это же «святой Иосиф»!
— Мой дорогой, я вижу, ты отстал от жизни! Ты забыл об африканизации! До независимости говорили «святой Иосиф», но теперь это вышло из моды, непатриотично, видишь ли. Вот и стали говорить «каркара», ну, разумеется, каждый коверкает это название по-своему, в Афанебеувуа, например — в семидесяти километрах отсюда, на той же самой дороге, я гам буду около трех-четырех часов, — говорят «кадкада», а чуть подальше, на юго-востоке, начиная от Звабеукуе, говорят «катката». Как видишь, я объехал всю страну и неплохо знаю ее. Взять хотя бы тебя, стоило мне приглядеться, и по твоему лицу я сразу понял: ты здешний, я хочу сказать, ты из этих мест, из Нтермелена. Разве не так?
— Так, так.
— Но ты не похож на крестьянина: это видно хотя бы по тому, что прошло уже полдня, а ты трезвый. Хочешь, я угадаю, кто ты? Ты чиновник или учишься в коллеже. Нет, скорее всего, чиновник: у тебя есть деньги, вон какие дорогие у тебя часы. Разве не так?
— Так.
«Вот пристал! И почему этот болван говорит мне «ты»? — возмутился вдруг про себя Эссола, — Возьму да и скажу ему сейчас: «Оставь-ка лучше меня в покое!» В 1956 году это считалось бы резким выпадом. Эссола со своими товарищами лицеистами из Фор-Негра обычно отвечал таким образом белым, обращавшимся к ним на «ты» независимо от того, где он с ними столкнулся: в административном учреждении, в магазине или на стадионе. Говорили, будто так советовал поступать Рубен — не спускать грубости, выражать протест любым способом всякий раз, как ущемлялось достоинство африканцев.
«Только к чему все это теперь», — с грустью думал Эссола. Прошло уже десять лет с тех пор, как убили Рубена, и шесть месяцев с того момента, как сам он отрекся от борьбы, за что его и выпустили из концентрационного лагеря, разрешили вернуться к прежней жизни и даже в виде поощрения дали место учителя в школе. Это, как ему сказали, должно было вознаградить его за упорство, ведь в свое время, в конце пятидесятых годов, будучи активным участником борьбы, он успевал учиться заочно.
А грек все не унимался:
— Сразу видно, что ты давно не был дома. Наверное, уехал отсюда, как все молодые. Погляди, в какие жалкие руины превратились деревни, почти вся молодежь сбежала отсюда. Впрочем, я их понимаю. Ну чем здесь можно заняться? Выкорчевывать джунгли с помощью мачете? Тогда уж лучше действовать лезвием бритвы! Каждый вечер напиваться? Это в двадцать-то лет! Отец говорит, что и из-за меньших бед люди покидают родную страну, а уж ему ли не знать. Стало быть, ты уехал, и уехал давно, если тебе незнакомо слово «каркара»…
— Точно.
— Был за границей?
— Да нет. Просто давно не приезжал сюда в отпуск. На все каникулы оставался в коллеже. Ведь там всегда забот хватает.
Учил читать неграмотных взрослых, готовил молодежь к экзаменам на аттестат, помогал людям составлять прошения властям или просто писал письма детям, да мало ли что… Я преподаю в коллеже. Учительствую.
— Чему же ты учишь?
— Да всему понемногу. Я преподаю историю и географию, а попутно занимаюсь вопросами гигиены, французским…
— Ах, французским! — ухмыльнулся шофер. — Значит, ты преподаешь французский язык? Вот смеху-то! По мне, африканец, который учит своих собратьев французскому, выглядит… как бы это тебе сказать… странным, что ли… Во всяком случае, мне это все непонятно. Скажи откровенно, ты-то любишь французов? Не бойся, со мной можно говорить открыто. Я ведь не француз. Люди часто ошибаются, слыша, как я хорошо говорю по-французски. Как ни странно, это часто случается с греками, родившимися во Французской Африке… прости, я хотел сказать, в бывшей Французской Африке.
— Не вижу разницы, — попробовал пошутить Эссола, стараясь угодить своему словоохотливому собеседнику.
— Так что же, выходит, ты любишь французов?
— Как тебе сказать… Это вопрос сложный.
— Да говорю же тебе, я не стукач! Поверь, у меня наилучшие отношения с африканцами, так же как и у моего отца…
— Я его знаю, — улыбнулся Эссола. — Вы на него очень йохожи.
— Правда?
— Я сразу догадался, что вы сын господина Деметропулоса.
— Лет пять уже я безуспешно пытаюсь поговорить о политике с молодежью, особенно с образованными молодыми людьми, но, стоит мне только заговорить с кем-нибудь об этом, люди немеют от ужаса. Зачем же тогда было так громко кричать о независимости? В этой стране все трясутся от страха, все, кроме французов. Эти-то по-прежнему чувствуют себя тут как дома. Ведь теперь стало хуже, чем до независимости, а вы-то надеялись, что будет лучше. Разве не так? Ага, ты тоже боишься, боишься, как и все другие! Нечего стыдиться, признавайся, что боишься.