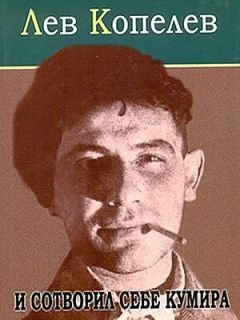Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 6 2010)
Недавно я писала о последнем романе Аксенова, посвященном шестидесятникам [6] . Сходство биографий писателей и почти одновременный выход книг, близких к мемуарному жанру, невольно побуждает к их сопоставлению. Чисто литературно книга Аксенова слабее: она рыхловата, плохо скомпонована, торопливо написана, фраза часто неряшлива — не то что крепко сбитый и хорошо продуманный текст Войновича. Но насколько у Аксенова подкупает широта души и стремление увековечить своих друзей, припомнив лучшие минуты взаимного общения, простив обиды, настолько отталкивает у Войновича мелкое намерение свести с бывшими друзьями счеты, эгоцентризм и неумение взглянуть на себя со стороны.
Однако не забудем и то, что книга Войновича называется «Автопортрет», а не «Автобиография». И все те качества книги, о которых здесь говорилось, все то, что привлекает в ней и что отталкивает, характеризует писателя. Да и сам Войнович замечает: «Литература такая штука, что в ней, как бы автор ни пытался себя приукрасить, его истинный облик все равно проступит сквозь наведенный глянец». Хорошо сказано.
Крестьянская работа
Июнь 1910 года был временем переломным — из тех времен, когда все вроде идет обычным чередом, но перемены на крыльце, вот они скрипят дверью, на пороге… Вот-вот все переменится.
Перетряхиваются, как пыльное покрывало, претензии к старым границам, и монархии считают будущих бойцов. Умер за океаном Марк Твен, а здесь еще жив Толстой, уже построены линкоры и крейсеры, чьи орудия начнут стрелять через четыре года. Набухает война, которой пока не придумали невиданное название.
В общем, это время, когда кончается один век и начинается другой.
Империи остается жить совсем недолго.
За год до конца другой империи — СССР — Виктор Ерофеев напечатал в «Литературной газете» [1] свою знаменитую статью «Поминки по советской литературе». Там он писал, в частности, «об официозной, деревенской и либеральной литературе, понимая при этом условность их деления», поскольку порой эти измерения пересекались.
Под все эти разделы статьи Ерофеева попадает один человек: и «деревенщик» (в особом смысле этого слова), и вполне официозный литературный работник. Одновременно этот человек — символ либеральной литературы шестидесятых годов.
Это — Александр Твардовский.
Твардовский — трижды сталинский лауреат: Сталинская премия второй степени (1941) за поэму «Страна Муравия», написанную пятью годами раньше, Сталинская премия первой степени (1946) за поэму «Василий Теркин», созданную в годы войны, Сталинская премия второй степени сорок седьмого года за поэму «Дом у дороги», не говоря уже о Ленинской премии (1962) за поэму
«За далью — даль» и Государственной премии (1971) за сборник «Из лирики этих лет. 1959 — 1967» — это классический список регалий советского литературного чиновника первого ряда. Кандидат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета четырех созывов и заседатель множества присутствий.
Да только вот жизнь хитра и распоряжается талантами чрезвычайно прихотливо.
И чем дальше уходит в историю время Твардовского, тем естественней из множества его дел выделяются два — «Василий Теркин» и «Новый мир». Так в музейном зале ты медленно отходишь от картины — и вот уже только пара деталей остается на отдалившемся полотне.
И при этом Твардовский — настоящий советский поэт. Без всяких эвфемизмов, придуманных для тех, кто начал писать до 1917 года, — то есть без эпитета «русский советский».
И более того, Твардовский — большой прозаик, это видно, в частности, по рассказу «Печники» и по знаменитым «Рабочим тетрадям».
Твардовский между тем настоящий поэт-крестьянин. Не Есенин, которому больше подходит имажинистский цилиндр, не умственный Клюев в смазных сапогах и с немецкими книжками, а Твардовский, который всю жизнь устраивает свою литературу крестьянским путем. Рачительно и вдумчиво, стараясь перехитрить барина, думая, как спасти урожай и пристроить детей.
Крестьянский подход к жизни перпендикулярен империи, если в воображаемом СССР он может существовать, а вот в реальном мире — не очень.
Твардовский был очень красивый человек. Художник Орест Верейский, работавший вместе с ним во время войны в «Красноармейской правде», писал: «Он был удивительно хорош собой. Высокий, широкоплечий, с тонкой талией и узкими бедрами. Держался прямо, ходил расправив плечи, мягко и пружинно ступая, отводя на ходу локти, как это часто делают борцы. Военная форма ему очень шла. Голова горделиво сидела на сильной шее, мягкие русые волосы, зачесанные назад, распадались в стороны, обрамляя высокий лоб. Очень светлые глаза его глядели внимательно и строго. Подвижные брови иногда удивленно приподнимались, иногда хмурились, сходясь к переносью и придавая выражению лица суровость. Но в очертаниях губ и округлых линиях щек была какая-то женственная мягкость. Несмотря на удивительную моложавость, он выглядел и держался так, что никому и в голову не приходило <...> называть его Сашей, как это было принято у нас…» [2] . А вот так журналист Яков Макаренко видит Твардовского сразу после войны, в конце 1945 года: «Он был высок, строен, красив. Твердо посаженная русая голова, причесанная справа налево, чистое с розовинкой лицо с прямым небольшим носом и голубыми глазами под дугами строго очерченных бровей, упрямый рот
и подбородок привлекали к себе внимание сразу. Удивляли также его руки — большие, крестьянские» [3] .
Мне иногда кажется, что это портрет обуздавшего свое саморазрушение Есенина. Это — Есенин, состарившийся в заботах.
Понятно, что это сравнение натянуто: Есенин никаким крестьяниномне был, а Твардовский — настоящий крестьянин, сохранивший свои деревенские повадки, даже став членом высоких комиссий, чья грудь была увешана орденами.
Жизнь Твардовского похожа на дом. С одной стороны — деревенская изба, с другой — сталинская высотка. Поставленный в Смоленске памятник Твардовскому, который изображает разговор поэта с его героем, очень точен. Твардовский в шинели с подполковничьими погонами. Ему там, между прочим, не больше тридцати пяти лет.
Возвращение к прошлому проходит на фоне интереса к сталинской архитектуре. «Сталинский» дом — мечта современного риелтора, надежное и просторное жилье.
А настоящий дом Твардовского был на даче, у посаженной своими руками яблони, а не на той московской улице, где висит мемориальная доска.
«С большой отрадой дышу пахринским летом, занимаюсь по хозяйству, кошу, обрезаю поврежденные морозами этой зимы яблони; из слив осталась одна, младшая, остальные зачахли, выбросив отростки, — ствол трупехлый, сламывается» [4] . И между прочим, когда в шестидесятые годы опять возникла угроза войны, Твардовский с некоторой иронией соглашается со своим соседом по даче писателем Баклановым, что спроси их, что бы отдали они ради мира, — так отдали б самое дорогое — вот эти яблони. Яблони в этой истории вспоминаются первыми — не пайки и звания, не ордена и автомобили, а вот эти яблони, что растут на небольшом по крестьянским мерками куске земли.
Владимир Лакшин в своих воспоминаниях вторит:
«Сад в последние годы был одной из его главных слабостей и утех. В нем крепко сидел крестьянский навык — жажда простого труда, радость прикосновения к земле. Он не любил искусственных упражнений для тренировки мышц — не могу представить его делающим гимнастику. Но физический труд, и нешуточный, был ему, по-видимому, необходим, иначе он начал „закисать”.
В 60-е годы Твардовский не однажды ездил за границу, во Францию и Италию. „В Италии, — говорил он, — стыдно сказать — сижу в наушниках на заседании КОМЕСа, тут о судьбах романа говорят, а я записываю в книжечку, как надо яблони перекапывать”» [5] .
Нужно отделить умиление всякого нормального человека, которое вызывает цветущая яблоня, и то, как человек год за годом наблюдает за растущим деревом, — миллионы наших соотечественников в силу многих причин живущих в городах, любят воткнуть что-то в землю и любоваться. Вон Никита Сергеевич Хрущев на пенсии ковырялся в земле и страдал чрезвычайно, когда у него померзли помидоры. Но тут разница в подходах — крестьянский труд не забава. Это просто труд, который выстраивает вокруг себя целый мир привычек и жизненных правил. Вот поэтому Твардовский и растил свой журнал как сад — с напряжением, сродни отчаянию, а не с веселой беззаботностью, как дачник на покое.