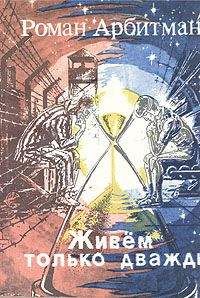Салман Рушди - Стыд
Реза Хайдар ничего из сказанного не понял, лишь крикнул:
— Выпустите меня поскорее! Зачем время тянуть?! То были его последние слова.
Каждая из сестер взялась за рычаг, и Муни сказала напоследок:
— Мы попросили его встроить кое-что в стенки. Думалось, для собственной защиты. Но, согласитесь, месть сладостна.
Резе Хайдару на мгновение вспомнился Синдбад Менгал, но тут сестры одновременно нажали на рычаги, и поэтому трудно судить, кто нажал чуть раньше или чуть сильнее. Старинные пружины Якуба-белуджа сработали превосходно, открылись потайные ниши, из них стрелами вылетели смертоносные длинные кинжалы, впились в тело Резы — в глаза, в шею, в пах, в живот—и располосовали его. Язык отрезало начисто, и он вывалился на колени генерала. В горле у Резы заклокотало, он дернулся и затих.
— Оставим их там, — повелела Чхунни сестрам. — Подъемник нам больше не нужен.
Приступы следовали один за другим, виски то сжимало, то отпускало, будто в схватках при родах. В камере было видимо-невидимо малярийных комаров, но они почему-то не торопились нападать на следователя, мужчину с увечной шеей. На голове у него был белый шлем, в руке — хлыст.
— Ручка и бумага перед вами, — говорит он. — Не сознаетесь во всем чистосердечно — не рассчитывайте на помилование.
— Где мои матушки? — жалобным ломающимся голосом подростка спрашивает Омар-Хайам. Он то басит, то пускает петуха и весьма этим смущается.
— Шестьдесят пять лет, а ведет себя как маленький, — фыркает следователь. — Не тяните, у меня времени мало. Меня ждут играть в поло.
— А меня и впрямь могут помиловать? — спрашивает Омар-Хайам. Следователь лишь досадливо пожимает плечами:
— Всякое возможно. Бог всемогущ, вы скоро в этом убедитесь.
— А о чем мне писать? — думает Омар-Хайам. И берется за ручку. — Я во многом могу сознаться: бросил родной дом, обжорствовал, пьянствовал, занимался гипнозом. Соблазнял девушек, а со своей женой не спал. Злоупотреблял орешками. Мальчишкой любил подглядывать, безумно увлекся малолетней, да вдобавок умственно отсталой девочкой, не сумел отомстить за смерть брата. Я его, правда, не знал. Трудно мстить за чужих людей. Признаюсь: я относился к родным как к чужим.
— Это все никому не нужно,—обрывает его следователь.—Что вы за человек? Каким нужно быть подонком, чтобы всю вину свалить на матушек, пусть-де их за решетку сажают.
— Я не жил, а сидел на обочине жизни. Не я, а другие люди играли главные роли в моей собственной жизни. Хайдар и Хараппа — вот их имена. Один пришлый, другой местный. Один набожный, другой безбожник. Один военный, другой гражданский. И женщины играли тоже главные роли. А я лишь смотрел из-за кулис и не знал, какая роль у меня. Я признаюсь в карьеризме, в пристрастии к своей профессии врача, даже в борцовских поединках я выступал как личный врач. Еще признаюсь: я боялся спать.
— Мы топчемся на месте, — следователь уже сердится. — Улики против вас неопровержимы. Ваша трость-кинжал, ее подарил вам Искандер Хараппа, заклятый враг потерпевшего. Мотив убийства очевиден, как очевидна и подвернувшаяся возможность. Так к чему вам ловчить и юлить? Вы просто поджидали удобный момент, вы жили двойной жизнью: втерлись в доверие к родным потерпевшего, а потом заманил супругов в ловушку — пообещали переправить за границу, они и клюнули. Что ж, приманка завидная. А потом вы совершили зверское убийство, нанеся множество ножевых ран. Все это очевидно. Так что кончайте валять дурака и пишите признание.
— Не виноват я, — говорит Омар-Хайам. — Трость-кинжал мне пришлось оставить еще в резиденции главнокомандующего.
Вдруг он чувствует в карманах что-то тяжелое. Следователь протягивает карающую руку, и Омар, увидев на ладони следователя нечто страшное, тоненьким срывающимся голоском кричит:
— Это мне матушки подложили!
Но что толку оправдываться. На ладони у его мучителя аккуратно нарезанные кусочки тела Резы Хайдара, его усы, глаза, зубы.
— Нет тебе прощенья! — произносит Тальвар уль-Хак, поднимает пистолет и стреляет Омар-Хайаму в сердце. Вся камера вдруг занимается пламенем. Под ногами у Омар-Хайама разверзается пропасть, накатывает дурнота, весь мир погружается во мрак.
— Признаюсь! — кричит он, но уже поздно. Мрак поглощает его, и темное пламя сжигает дотла.
За долгие годы люди уже привыкли не обращать внимания на особняк сестер Шакиль, и только к вечеру заметили и возгласили по всей округе, что парадная дверь распахнута — такого не припомнят даже старожилы. Значит, случилось нечто из ряда вон выходящее. Почти никто не удивился, увидев лужу застывшей крови подле подъемника. Долго стояли люди перед открытыми дверьми, не решались не то что войти, даже заглянуть в дом, хотя и изнывали от любопытства. Вдруг, как по беззвучной команде, все разом ринулись к входу: сапожники и нищие, газодобытчики и полицейские, молочники, банковские служащие, женщины прямо верхом на осликах, мальчишки с обручами и палками, лоточники, акробаты, кузнецы, жены и матери— одним словом, все.
Обитель гордыни трех заносчивых матушек смиренно дожидалась своей участи, отданная во власть зевак и прохожих. Люди сами поразились вдруг проснувшейся в них ненависти к этому дому, ненависти, капля за каплей копившейся шестьдесят пять лет в недрах памяти. Круша все на своем пути, люди бросились искать старух. Такой же тучей налетает саранча. Со стен срывали старинные гобелены, и ветхая ткань прямо в руках обращалась во прах; взламывали крышки у шкатулок и находили пачки денег и кучи монет, которые давно уже не имели хождения; распахивали скрипучие двери, старые петли не держали, и двери валились на пол; переворачивали постели, вытряхивали из кухонных ящиков столовое серебро; переворачивали ванны и откручивали золоченые ножки; в поисках сокровищ вспарывали обивку диванов; а старый диван-качалку выбросили на улицу из ближайшего окна. Люди словно очнулись от колдовского сна, получили наконец объяснение старинной, долго мучившей их тайне. Потом они будут изумленно смотреть друг на друга, не веря своим глазам, и гордость будет бороться в их душах со стыдом. «Неужто это наших рук дело? — станут вопрошать они. — Ведь мы же простые люди».
Стемнело. Сестер так и не нашли.
Зато нашли тела в подъемнике. А сестры Шакиль исчезли. Больше их никто никогда не видел — как в Нишапуре, так и вообще на белом свете. Они покинули свое гнездо, но, возможно, сдержали слово: оказавшись под палящим солнцем, мигом обратились в прах и его развеяло ветром. А может, у них выросли крылья и унесли сестер на запад, к Немыслимым горам. Во всяком случае, такие сильные женщины на полпути не останавливаются. Как скажут, так и сделают.
Ночь. В комнатушке под самой крышей нашли старика. Он лежал на огромной постели под балдахином на четырех столбцах, по которым все ползли и ползли деревянные змеи. Видно, от шума он пробудился, сел на постели и угрюмо пробормотал:
— Значит, я еще жив.
Кожа была у него пепельно-серая, болезнь источила его всего, и кто он — по виду не догадаешься. Он походил на пришельца с того света, и люди испугались.
— Я хочу есть, — сказал он, с удивлением разглядывая незваных гостей с дешевыми электрическими фонариками и дымящимися факелами. Потом он спросил, кто они и что им надобно в его покоях. Люди попятились и поспешили убраться восвояси. А полицейским крикнули, что в этом гнездилище смерти кто-то есть, не то живой, не то мертвый — не разберешь. Сидит на постели и важничает. Полицейские поспешили было наверх, но тут на улице вдруг поднялись крики, и они бросились обратно — выяснить, в чем дело, и навести порядок. А старик поднялся с постели, облачился в серый шелковый халат, аккуратно сложенный матушками у него в ногах, хлебнул из кувшина свежего лаймового сока (лед едва растаял). Тут-то и до него донеслись крики,
Необычные то были крики. Они то поднимались до визга, то вдруг пугающе-внезапно обрывались. Скоро он понял, кто приближается к дому. Только одно существо могло оборвать крик жертвы, взглядом подчинив ее своей воле. И теперь чудовище не насытится, пока не доберется до него, Омар-Хайама; чудовище не обмануть, от него не сбежать. Оно уже несется по ночным улицам городка и его не остановить. Вот оно уже топочет по лестнице. Слышен его рев.
Омар-Хайам стоял подле постели и ждал. Так ждет молодой муж возлюбленную в первую брачную ночь. А рык все громче, все ближе, несется по ветру смертоносное пламя. Вот распахнулась дверь. Напрягшсъ, он вгляделся во тьму — там горели два желтых огня. Наконец, он различил Суфию Зинобию: на четвереньках, совершенно голая, с налипшей грязью, кровью, калом, с листьями и веточками на спине, со вшами в волосах. Она увидела его, и ее пронзила дрожь. Поднявшись на задние лапы, она простерла к нему передние.
— Вот и пожаловала наконец, женушка, — только и успел сказать Омар-Хайам, цепенея под ее взглядом.