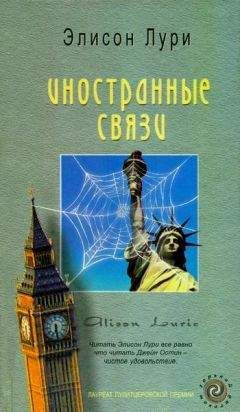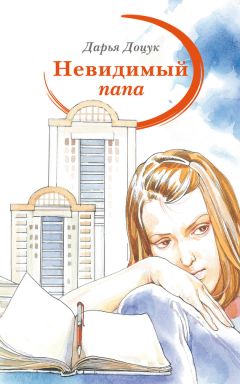Владимир Шаров - Старая девочка
И всё же, — говорил Клейман, — я продолжал эту работу, знал, что буду продолжать и дальше, потому что, если приму, что такого человека в природе не существует, вывод из этого один — я невменяем и больше быть чекистом не могу. И Господь вознаградил за терпение; чуть не в двадцатый раз страницу за страницей перечитывая дневник, я заметил, что несколько листов, хоть и написаны почерком, очень похожим на Верин, — я не графолог, — повторил Клейман, — и на мой глаз, почерк был Верин, а язык — это уж без сомнений ее, но написано всё крупнее, чем она обычно писала. И тут меня осенило, что это подделка, фальшак — раньше здесь было что-то другое, но из текста убрали лишнее, а что осталось, разогнали, чтобы страницы, как и должно, были исписаны целиком.
Это было настолько очевидно, что я, — сказал Клейман, — поразился своей слепоте. Теперь я не сомневался, что человек, который мешал мне весь последний год, — не плод воображения, больше того, я знал, что очень скоро его найду. В сущности, у меня в руках была универсальная отмычка, и сейчас, — сказал Клейман, — я думаю, что эти подчистки мне даже помогли. Ведь теперь было известно главное — где, в какие годы и месяцы искать своего противника, где, как и когда он попал в Верину жизнь.
Первая подчистка датировалась двадцатым годом. Вера тогда с лета почти до зимы проучилась на педагогических курсах, после чего вышла замуж за нацмена и уехала второй раз в Башкирию. На тех курсах, кстати, она подружилась и со своим будущим мужем, Иосифом Бергом. Это был один из самых счастливых периодов Вериной жизни, записи того года сплошь радостные.
Я, — продолжал Клейман, — давно этот год для себя отметил, но что именно здесь корень, конечно, не предполагал. Дальше была уже техническая работа — выявить и разыскать всех, с кем Вера тогда виделась. Они могли и не быть с педагогических курсов, но наверняка или сами, или через Веру друг с другом общались, в крайнем случае друг о друге слышали. Начал я, естественно, с курсов; послал запрос на Лубянку и уже через пять дней получил список всех, кто там учился: фамилия, имя, отчество, год рождения, где теперь живет и чем занимается, то есть ровно то, что просил.
Получил, — продолжал Клейман, — и совсем не удивился, когда на первой же странице нашел Кузнецова, его нынешнее местожительство — Ярославль и должность — первый секретарь областного комитета партии. После этого всё окончательно прояснилось. Нет никаких сомнений, что Кузнецов еще тогда, двадцать лет назад, был влюблен в Веру, любит ее и сейчас, верит, что она идет именно к нему. Поэтому-то ее и прикрывает.
Конечно, — сказал Клейман, — вы спросите, где же здесь криминал, ведь вы и сами готовы поддержать каждого, кто ждет Веру; вы так убеждены, что эта политика правильная, что легко закроете глаза на то, что первый секретарь обкома ВКП(б), не жалея ни сил, ни средств, помогает прямой контрреволюции; однако на Кузнецове висит и другой грех, его отпустить будет труднее.
Так вот, — продолжал Клейман, — я на том, что Кузнецов покровительствует Вере и почему он это делает, не остановился. Что-то мне говорило, что в этом деле есть еще немало интересного. Словом, я продолжал копать дальше. Нашел несколько человек из их тогдашней компании: одни сейчас сидят, другие на свободе и процветают, кого-то, как водится, нет в живых. Компания была большая, Кузнецов вообще всегда был окружен людьми, у нас его тоже любят. Не знаю, новость для вас или нет, но ведь в свое время он вместе со Сталиным отбывал туруханскую ссылку, и с тех пор они дружат. Кузнецов даже по-прежнему зовет его Кобой, а это дозволяется немногим. Не то чтобы они со Сталиным не разлей вода, но Сталин к нему относится хорошо, похоже, из своих дореволюционных друзей он вообще мало к кому так хорошо относится, как к Кузнецову.
Ну вот, а двадцать лет назад, — продолжал Клейман, — когда Кузнецов и Вера учились на своих педагогических курсах (сам Кузнецов проучился там, кстати, всего три месяца, потом был послан на партийную работу), они со Сталиным были по-настоящему дружны. Это отмечают все, с кем я о тех годах заговаривал. Он и позже, когда Вера из Башкирии вернулась, ездил к Сталину на кунцевскую дачу и всегда по нескольку человек с собой прихватывал. Время было голодное, и от такого подарка мало кто отказывался. Вера, надо сказать, ездила с ним почти всякий раз.
Но я его, конечно, не в этом обвиняю, — сказал Клейман. — Все, с кем я на эту тему беседовал, вспоминают, что Сталину Вера очень нравилась, так что он и дальше, зовя к себе в Кунцево, никогда не забывал сказать Кузнецову, чтобы пригласил и Веру. Похоже, что между Верой и Сталиным тогда ничего не сладилось, но то, что он был ею увлечен, несомненно. К чему я это веду? Я убежден, что Сталин не дает приказа ликвидировать Веру только потому, что обманут: Кузнецов внушил Кобе, что Вера возвращается именно к нему, к Сталину. Кузнецов сам ждет ее, считает часы, а Сталину каждый день говорит, что знает точно, прямо со слов Веры знает, что она идет к Кобе.
Последний год он звонит Сталину по телефону очень часто, и я не сомневаюсь, что они именно об этом и разговаривают. Не знаю, — продолжал Клейман, — хватит ли вас на то, чтобы записать разговор Сталина с Кузнецовым, но вы и без этого понимаете, что рано или поздно Сталину станет известно, что Кузнецов всё это время его обманывал, станет известно, что Вера идет отнюдь не к нему, и то, что я вас об этом предупреждал, он тоже узнает. Вряд ли он вам это простит.
Мне отсюда, из своего провинциального Ярославля, — говорил дальше Клейман, — давно кажется, что вам и на страну, и на партию, и на революцию наплевать; был один человек, которому было не наплевать, — Ежов, но вы его неделю назад съели. Но жить ведь мы все любим, — добавил он вдруг почти дружески, — спасти свою шкуру каждый хочет, а ваше положение сейчас не лучше моего. Конечно, лучше, но не сильно», — повторил Клейман и замолчал.
Хотя несколько дней назад Ерошкин то же самое слышал из уст Ежова, он растерялся. Растерялся потому, что то, что нарком говорил на допросе, было лишь подозрениями; это могло быть так, а могло быть совсем иначе. То же, что он сейчас услышал от Клеймана, не оставляло надежд. После хорошей еды и хорошего питья, после той благости, которая была в нем от первого дня, прожитого в Ярославле, к подобному повороту Ерошкин готов не был. Когда несколько часов назад, выйдя из ресторана, он решил, что сегодня же ночью вызовет Клеймана, всё казалось ему простым и легким. Козыри на руках были только у него, Клейман был пуст, однако из своих карт Ерошкин ничего не извлек, наоборот, неожиданно сам пропустил от Клеймана сильный удар.
Поворот был чересчур резок, и Ерошкин не мог сосредоточиться, никак не мог свести концы с концами. То ли он просто устал, то ли действовал выпитый за ужином коньяк, но он вдруг почувствовал, что ему и вправду на всё наплевать. Он думал о том, надо ли, должен ли он сообщить о Сталине и Вере Смирнову. С одной стороны, конечно, должен, а с другой, он понимал, что лишь подставит Смирнова, подставит всё их дело, как только что Клейман подставил его самого. Это было, пожалуй, последнее, что он правильно и разумно понял, он даже успел догадаться, что Клейман этого и хочет, что ему это и надо — чтобы о Сталине и Вере узнало как можно больше народа, чтобы это вышло на поверхность, но дальше снова сбился. Опять не мог сообразить, звонить сегодня Смирнову или не звонить. Наконец, так ничего и не решив, бросил Смирнова и стал думать о Сталине.