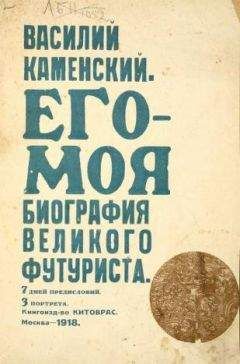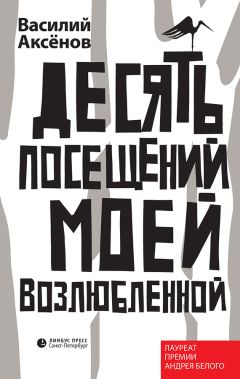Василий Аксенов - Вольтерьянцы и вольтерьянки
Вольтер улыбался, оглядывая стены. На полках были собраны, почитай, все его издания, включая даже и самые скандальные, пиратские, со всей Европы. Присутствовали и его возлюбленная «Диатриба доктора Акакия, папского врача», что сотворила в свое время столько «шороху» (по бытовавшему тогда в литературных кругах выражению) на всех этажах Прусской академии.
По всему помещению библиутеки в излишнем даже обилии были расставлены античные бюсты: Гомер, Софокл, Эсхил, Еврипид, Платон, Аристотель (последний упомянутый внимательно смотрел на первого). Вольтер подмигнул «своему Ксено», ему понравились сии «афсиомовские машкерады».
Вообще Вольтер был в неплохой кондиции. После недавней ночи, то ли реальной, то ли приснившейся, во всяком случае, толь волшебно завершившей его блистательный монолог о любви, он как-то удивительно взбодрился, и даже вечная его мучительница, мысль о жизни как умирании, перстала докучать. Попивая по утрам отвар отменнейшего какао, доставленного с борта «NOLI МЕ TANGERE!», где капитаном был к удовольствию англофила настоящий, хоть и российский, англичанин, и строча свои бесконечные письма (позднее было подсчитано, что сей славный муж за отведенное ему время «накатал», как тогда выражались, не менее 50.000 штук эпистолярного жанра), он наслаждался и нежным июльским бризом, и нежнейшим вниманием со стороны личного посланника Ея Мадамства, и хрустящими булочками в виде полумесяца, кои он никак не мог назвать иначе чем les croissants, a также и мыслями о возможном повторении волшебного блуда, сего вящего свидетельства несовершенства человеческой природы. С этим было как-то легче преодолеть то, что все-таки слегка подсасывало внутри, в районе селезенки, где как раз и проявляется дефицит йодических атомов, намекая, что где-то поблизости, в неких пространствах безвременья, словно репетиция к злодеяниям будущего, жестоко грохочут и разрушают церкви одновременно три войны, названных толь неправдиво его именем.
***
«Господа, сегодняшнее наше собрание имеет первостатейное значение, — очень серьезно, без обычной его лукавинки в очах произнес Фон-Фигин. — Ея Императорское Величество ласкается, что Ея беседа со светочем ума и знания — речь идет о тебе, мой Вольтер, — пусть и непрямая, однако сугубо доверительная, поможет Ей принять наиважнейшее для нашего государства решение».
«Держу пари, что ведаю уже, о чем пойдет речь». Лицо Вольтера заиграло хитрющими морщинками, как у некоего человекоподобного лиса. «Ксено не даст соврать старому пройдохе. Еще в Париже на следующий день после сокрушительного успеха „Семирамиды“, когда ты, мой Ксено, передал мне приглашение Государыни, я сказал тебе, что мне ведома основная причина сей встречи. Ты ночевал тогда в моем доме, и мы столкнулись под утро в коридоре, помнишь? Уже тогда я знал, что речь пойдет об отмене крепостного права в России. Подтверждаете, генерал?»
Ксенопонт Петропавлович с важностию кивнул, хотя ничего подобного и не помнил. Кажется, и в самом деле наткнулся на хозяина, когда бродил там в поисках ночного горшка, был вроде бы какой-то вольтеровский намек на его исключительную прозорливость, однако о крепостном праве как будто так и не разговорились. Тем не менее кивнул еще раз: как не помнить столь важный исторический моментум! Фон-Фигин после этих кивков внимательно посмотрел на генерала, однако ничего не сказал.
«Так что же, мой Фодор, прав я или нет? Угадал ли я глубинную истину?» — вопросил филозоф.
Посланник улыбнулся. «И да, и нет, мой Вольтер. Все темы наших бесед имеют для Императрицы первостатейное значение. Филозофия природы или, скажем, иерархия искусств не менее важны, чем политическая злоба дня, к примеру вопрос о распространении императорского „Наказа“ или проблемы престолонаследия. Государыня ласкается, что ее не зря причисляют к плеяде энциклопедистов. Беру на себя смелость изречь, что среди великих Ея мечтаний наивеличайшим является мечтание сделать развитие России вкладом в человеческое просвещение. Вот почему все беседы наши для Нее в равной мере важны и тема крепостного права неотделима от всех прочих. Другое дело, что тема сия, быть может, сложнее других, поелику вовлекает в некую пучину великое многомиллионство телес и душ человеческих.
Так уж получилось в нашей обширной державе, что в отличие от Европы крепостное право у нас не только не увяло за последние сто лет, но окрепло. Ежели во Франции, в италийских государствах и во многих землях Германии, не говоря уж тем паче об Англии и особливо об ея североамериканских колониях, все эти исконные формы общества, сеньории и маноры, рассматриваются как пережитки прошлого, то в России никто под вопрос оные сеньории не ставит».
«Вы имеете в виду „вотчины“, мой друг?» — поинтересовался Вольтер. (Он произнес «ле вотшэн».)
Фон— Фигин удивленно поднял свои великолепные брови: «Какая осведомленность, браво, мой Вольтер! Вот именно вотчины, все наши княжеские, дворянские и монастырские поместья. Какими они сложились после Соборного уложения тысяча шестьсот сорок девятого года, таковыми и пребывают».
«Прости, мой Фодор, но я должен внести поправку в твои размышления, — проговорил Вольтер. — Североамериканские колонии Англии при всей их склонности к свободе пока что негожи для примера: там существует рабство».
«Так ведь это же привезенные из Африки негры», — заметил тут граф Рязанский.
«Ксено, Фодор! — горячо воскликнул Вольтер. — Я не открою вам великой тайны, если скажу, что негры — это такие же люди, как мы все! — Он помрачнел, прикрыл лицо руками и тихо добавил: — А может быть, и выше нас в силу перенесенных ими страданий».
«Как неожиданно! Как гениально! — вскричал потрясенный Фон-Фигин. — Вольтер, ты действительно совесть человечества! А ведь наши крестьяне, по сути дела, ничем не отличаются от черных рабов. Страданиям их несть числа! Даже век просвещения не принес им поблажки. Напротив, нужда в рабочей силе для строительства флота, крепостей и городов только укрепила крепостничество. Великий Петр гонял несметные толпы крестьян, как скот. Века идут, а древние вотчины, а бесконечная кабала незыблемы. Пришла ли пора покончить с этим позором раз и навсегда?»
Вольтер смотрел на столь неожиданно воспламенившегося вельможу и думал: чем он больше потрясен, уравнением ли негров со всеми человеческими особями, возвышающим ли пафосом их страданий или сравнением российского низшего сословия, всего этого белого, но безжалостно забитого многомиллионства с черными рабами Америки? Ведь у него и у самого небось немалое число душ, ведь не деньгами, а числом крепостных мужиков они там измеряют свои богатства.