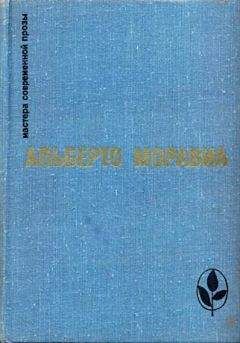Альберто Моравиа - Римлянка
Мы очутились возле магазина шерстяных и шелковых дамских изделий, и мама сказала:
— Посмотри, какой красивый платок, вот бы мне такой.
Спокойная и повеселевшая, я подняла глаза и увидела платок, который так понравился маме. Он и впрямь был хорош: с рисунком из черно-белых птиц и веточек. Двери магазина были распахнуты, и с улицы виднелся прилавок, на нем стоял ящик с отделениями, где лежало множество разбросанных в беспорядке платков. Я спросила у мамы:
— Тебе нравится этот платок?
— Да, а что?
— Сейчас ты его получишь… но сперва дай мне твою сумку, а мою возьми себе.
Она ничего не понимала и смотрела на меня, раскрыв от изумления рот. Не говоря ни слова, я взяла ее большую кожаную черную сумку, а ей сунула в руки свою, которая была намного меньше. Раскрыв замок сумки и придерживая его пальцами, я медленно вошла в магазин, делая вид, что собираюсь что-либо купить. Мама, ничего не понимая, но и не осмеливаясь приставать ко мне с вопросами, вошла за мною следом.
— Нам бы хотелось выбрать платок, — сказала я продавщице, подходя к ящику с отделениями.
— Вот шелковые платки… это кашемировые… это шерстяные… а это хлопчатобумажные, — сказала продавщица, раскладывая передо мною товар.
Я встала рядом с прилавком, держа сумку чуть ниже талии, и одной рукой принялась перебирать платки, разворачивала их, разглядывала на свет, сравнивала рисунок и цвета. Таких платков с белыми и черными узорами была по меньшей мере целая дюжина. Я с умыслом подтянула один платок к краю ящика, и конец его свесился с прилавка. Потом я обратилась к продавщице:
— Откровенно говоря, мне хотелось бы что-нибудь поярче.
— У нас есть товар высшего качества, — отозвалась продавщица, — но он дороже.
— Покажите мне, пожалуйста.
Продавщица отвернулась и стала вытаскивать из шкафа коробку. Я быстро отодвинулась от прилавка и открыла сумку. Потянуть платок за кончик и вновь прижаться всем телом к прилавку было секундным делом.
Продавщица тем временем вытащила картонку из шкафа, поставила ее на прилавок и показала мне платки еще большего размера и еще более красивые. Я долго и спокойно разглядывала их, делая замечания по поводу цвета и рисунка, затем показывала их маме, а мама, которая все видела и была ни жива ни мертва, только молча кивала головой.
— Сколько стоит? — наконец спросила я.
Продавщица назвала цену. Я с сожалением в голосе ответила:
— Вы правы, они слишком дороги, по крайней мере для меня… во всяком случае, большое вам спасибо.
Мы вышли из магазина, и я быстро направилась в ближайшую церковь, я боялась, что продавщица может заметить пропажу и побежит за нами. Мама взяла меня под руку и растерянно и опасливо озиралась по сторонам, так смотрит пьяный человек, который не совсем уверен в том, что вокруг него все трезвые, поскольку рядом все качаются и толкаются. Я едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться: уж очень у мамы был забавный вид. Я сама не знала, зачем украла платок, в конце концов, это не имело значения, так как я уже один раз воровала — в доме хозяев Джино я взяла пудреницу, — а в таком деле важен первый шаг. Теперь я испытала то же самое чувственное удовольствие, как и в прошлый раз. Мне показалось, что я могу понять тех людей, которые воруют. Через несколько минут мы очутились возле церкви, и я спросила маму:
— Хочешь, зайдем на минутку в церковь?
Она покорно ответила:
— Как знаешь.
Мы вошли в маленькую белую церковь, она была круглой формы, и колонны, идущие вдоль стен, делали ее похожей на танцевальный зал. Здесь стояли два ряда скамей, и на их отполированные сиденья из окошек купола струился бледный свет. Я подняла глаза и увидела, что купол весь расписан фресками, там парили ангелы с распростертыми крыльями. И я сразу почувствовала себя уверенно, ведь эти прекрасные и всемогущие ангелы непременно защитят меня, и продавщица заметит пропажу только вечером. Торжественная тишина, запах ладана, полумрак, царившие в церкви, подействовали на меня умиротворяюще после уличной суматохи и слишком яркого света. Когда я торопливо входила в церковь, то почти насильно втолкнула туда маму, сама-то я быстро успокоилась, и страх мой прошел. Мама что-то искала в моей сумке, которую до сих пор держала в руках. Я протянула маме ее сумку и шепнула:
— Надень платок.
Она раскрыла сумку и повязала голову украденным платком. Мы окунули пальцы в чашу со святой водой и заняли место в первом ряду перед главным алтарем.
Я опустилась на колени, а мама продолжала сидеть, сложив руки на животе, лицо ее было затенено большим платком. Я понимала, что она взволнована, и невольно сравнивала свое спокойствие со смятением, охватившим ее. На меня нашло безмятежное и кроткое состояние духа, и, хотя я понимала, что совершила поступок, осуждаемый религией, я не чувствовала угрызений совести и теперь была ближе к богу, чем тогда, когда не совершала ничего предосудительного и работала день и ночь, едва сводя концы с концами. Я вспомнила, как содрогнулась, увидев эту многолюдную улицу, и утешилась при мысли, что бог, который видит меня насквозь, не найдет в моей душе ничего плохого — меня оправдывало уже то, что я живу на свете, впрочем, это снимало вину вообще со всех людей. Я знала, что бог там, на небе, не для того, чтобы судить и наказывать меня, а для того, чтобы оправдать мое существование, которое не может быть дурным, поскольку целиком зависит от его воли. И, машинально твердя слова молитвы, я смотрела на алтарь, где за язычками пламени свечей смутно виднелась темная икона. На иконе, как мне показалось, была изображена Мадонна, и я понимала, что Мадонна не станет вникать в такой пустяк, как мое поведение в том или ином случае, важнее другое: могу я надеяться, что она благословит меня на жизнь, или нет. И вдруг мне показалось, что темная икона, отгороженная от нас огненным заслоном горящих свечей, посылает мне благословение, я поняла это, почувствовав необычайное тепло, внезапно охватившее все мое существо. Итак, я получила это благословение, хотя ничего не понимала в жизни, не знала, зачем живут люди.
Мама сидела поодаль печальная и задумчивая, новый платок она низко надвинула на лоб, и я, оглядываясь назад, не могла сдержать ласковой улыбки.
— Помолись… тебе будет легче, — прошептала я.
Мама вздрогнула и после минутного колебания как бы через силу опустилась на колени, скрестив руки на груди. Я знала, что она перестала верить в бога, религия в ее глазах была своего рода ложным утешением и служила единственной цели: заставить ее быть кроткой и забыть все тяготы жизни. И тем не менее она механически зашевелила губами, и при виде ее недоверчивого и мрачного лица я снова улыбнулась. Мне так хотелось утешить ее, сказать, что я передумала, пусть она не боится, ей не придется снова браться за прежнюю работу. В мамином дурном настроении было что-то детское, она была похожа на ребенка, которому отказывают в обещанных лакомствах, и именно эта черта определяла ее отношение ко мне. Не будь этой черты, можно было бы подумать, что мама собирается использовать мое ремесло в своих корыстных целях, но я знала, что это не так.