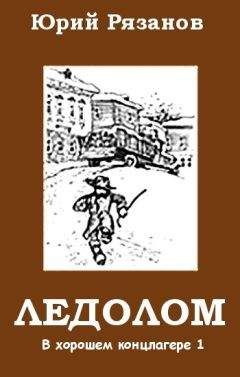Рязанов Михайлович - Наказание свободой
Это был мой, пожалуй, единственный блат среди лагерных придурков. И я им пользовался, не страдая угрызениями совести, ведь я никого не ущемлял, незаконно прогреваться и мыться мне удавалось в «санитарные» часы. Температуру в прожарочной камере поддерживали и в нерабочее время — чтобы не остыла. А пара шаек даже холодной воды, отпущенной мне корешем по блату, меня вполне устраивала.
Я уже собирался ударом ноги отворить дверь, как услышал глухо бухнувшую щеколду. Встревоженно глянул в окошечко — никого. Толкнул дверь носком ботинка — тщетно. Что есть силы громыхнул пяткой — тот же результат.
Электроразрядом меня пронзила догадка: закрыли! Что за идиотская шутка? Но в душе я надеялся, что сейчас же всё разъяснится. Выждал несколько минут. А может, всего одну. Ещё несколько раз долбанул пяткой в металлическую обивку двери. Опять прислушался — ни звука. Да что они — одурели?!
Потеряв на мгновение самообладание, я прислонился ладонью к металлу и отдёрнул руку — больно!
Что же они со мной делают, шизики? Что задумали?
— Володя! — попытался выкрикнуть я.
Но крика не получилось. Горло совершенно пересохло. Я закашлялся и закрыл рот ладонями. И в этот миг почувствовал, что если только поддамся панике, — всё, пропал. Лишь бы не потерять сознание. И — чтобы ноги в коленях не подогнулись.
Надо было что-то немедленно предпринимать. И я догадался: выбить стекло в смотровом окошке. Оно — небольшое, сантиметров десять на десять. За ним моё спасение.
Нагнувшись, снял ботинок с правой ноги, босой ступнёй опёрся на раскалённый носок левого ботинка и каблуком саданул в закопчённое стеколко. И мне удалось его разбить. Опираясь ботинком о дверь, чтобы не поджарить руку, я приблизился открытым ртом к спасительному отверстию. И, кажется, ухватил порцию не столь горячего, разбавленного прохладным воздуха. Но не рассчитал и слегка прислонился надбровием к железному выступу. И услышал, как зашипел, вскипая, пот. Перед моими глазами запрыгали рубиновые, похожие на кроличьи глаза в темноте пятна. В голове пронеслась и как бы осталась звучать эхом знакомая фраза:
Только не упасть, только не упасть, только не упасть…
Эта фраза — предупреждение, заклинание, почти приказ — успокоила меня, я закрыл глаза, разъедаемые горьким потом, и стал дышать ровно и не очень глубоко.
Дверь подалась, отворилась и я вывалился вслед за ней. Рухнул на пол. Что я увидел, подняв голову, так это круглую улыбающуюся рожу Володи.
— Ты чего, кент?! — притворно воскликнул он. — Угорел?
А я, бросаемый из стороны в сторону, устремился к скамье под намалёванными на стене правилами о пользовании «аней». Букву «б» уже несчётное количество раз восстанавливали, но кто-то, может сам Володя, стирал и даже выскабливал её. Поэтому и в поговорку уже вошло: пойти, лукнуться к ане, анке и даже аннушке.
Я свалился под строгие запретные строки, и они, кувыркаясь поплыли то вверх, то вниз. Но в меня уже вкатилась волна, содержание которой я уловил точно: я — вне опасности. И с облегчением подумал, что уже не обнаружат на раскалённой решётке мой поджаренный труп.
Похохатывая, Володя принёс огромную кружку ледяной воды, и я её проглотил залпом, не отрываясь.
— Водохлёб, — покровительственно и вроде бы с восхищением произнёс Володя.
Через какой-то небольшой интервал я произнес-таки:
— Ты что же делаешь, Володя? Ведь я мог сгореть.
— Божись! — дурачился прожарщик. — Да подь ты в жопу.
— Ну и сволочь же ты. А ещё — кент.
— Ништяк, Юрок. Режим нас чуть не застукал.
— Но я и в самом деле мог сгореть. Как это ты начальнику объяснил бы?
— Запросто. Что ты сам в камеру забурился. Нам, что, из-за тебя в трюм спускаться, кент?
— Но ведь жизнь человека… Моя…
— Что — твоя жизнь, Юра? — продолжал лыбиться Володя. — Канай, я тебе воды отпущу. Пару шаек. Лады? Помоешься, заваливай на чифирок, мусора́ больше не нарисуются сёдня.
Я поплёлся в мыльное отделение, ошарашенный только что услышанным. Это ж надо, а? Чуть не зажарился заживо, и только из-за того, что мусор в баню заглянул, так, от нечего делать…
Но шок уже прошёл, и я вспомнил, что забыл захватить мыло. Вернулся, снял с труб порыжевшее дымящееся обмундирование и прочее, взял со скамейки кубик хозяйственного мыла, пошёл в холодное моечное отделение. Постучав по крану, нацедил обещанные две шайки чуть тёплой воды.
Первым делом я намылил голову, может быть потому, что в последние минуты в прожарочной камере думал не только о том, чтобы колени не подломились, но и страдал от мысли, что вот-вот вспыхнут мои волосёшки: накануне я натёр их керосином. Хорошо от головных вшей помогает. И хотя мне было известно, что это — чушь, глупости, и всё же я опасался, что испаряющийся керосин вдруг да и вспыхнет?
Помывшись, я даже не поблагодарил Володю за услугу, подался сразу в барак.
Боли в теле уменьшились и притупились, я их почти не чувствовал, зато ощущался прилив бодрости.
Всю ночь я не чесался, спал как сражённый наповал. А утром, чтобы не опоздать на развод, пришлось разрезать на кусочки спёкшиеся, словно окаменевшие сыромятные ремешки, потому что невозможно было затолкать в ботинки ступни, обёрнутые портянками.
Через неделю я опять стоял на раскалённой решётке и не без опасений поглядывал в квадратное окошечко с вставленным в него чистым стеклом. Внизу, на дне трёхметровой шахты, розовели и искрили колошники.
Это было в городе ОдессеЭто было в городе Одессе,
Где воров немалое число.
Катера там ходят беспрестанно,
Девки любят карты и вино.
Завелася там одна девчонка,
За неё пускали финки в ход,
За её красивую походку
Костя пригласил её в кино.
В крепдешины я тебя одену,
Лаковые туфли нацеплю,
Золотую брошь на грудь повешу
И с тобой на славу заживу.
Крепдешины ты нигде не купишь,
Лаковые туфли не найдёшь,
Потому что нет их в магазине,
А на рынке ты не украдёшь.
Костя не стерпел такой обиды,
Кровью налилось его лицо,
Из кармана вытащил он финку
И всадил под пятое ребро.
Это было в городе Одессе,
Где воров немалое число,
Катера там ходят беспрестанно,
Девки любят карты и вино.
Окно
— Во подфартило мужику! Под красным крестом до весны кантовка обеспечена. А мы за него на морозе кайлить землю будем. Повезло фраерюге…
— Позавидовал: повезло… Видел, как ему оба костыля переломило? Белые кости во все стороны торчат…
— Лепила отпилит копыта. И — на актирование. До дому, до хаты… На воле и без ног можно жить гарно.
— Обрадовался: сактируют… В инвалидный лагерь этапом бросят. А там, кто без ног, — сидя, руками полную смену мантулят. В швейных ишачат, в сапожных. Для нас шьют и тачают: телогрейки, ботинки кирзовые…
— Что ты Рязанов, сравниваешь хуй с пальцем. Они же в тепле робят. Мёрзлую землю кайлом отколупывать или, як пан, в мастерской сидеть и верхонки[173] шить.
— Не все, Коля, в тепле отсиживаются. Саморубы и обмороженцы, которые вовсе без грабок, на собственном хребте в козлах кирпичи по мосткам, от пота мокрым, бегом таскают — только скрип стоит. Никто задарма лагерную пайку и там не получает, запомни.
Такой разговор у нас с Колей Борщуком (имя и фамилия подлинные), моим бригадным напарником, произошёл на разгрузке платформы воскресным днём ранней осени пятидесятого близ железнодорожной станции Зыково недалеко от Красноярска.
Коле, пареньку из украинского села, до тла разорённого войной, минуло девятнадцать. Всего на год больше, чем мне. Но он мнит из себя старого, тёртого зека и относится ко мне свысока: я лишь первый год каторжную лямку тяну, а он — с сорок седьмого.
Борщук в самом деле успел хлебнуть лиха и в оккупации, и ещё больше — в послевоенном колхозе, и, конечно же, — в тюряге. И поэтому ненавидит всех на свете, злобствует и скалится, как затравленная собачонка, беспрестанно кипя обидой за то, что оказался в проклятом месте. За два украденных из колхозного бурта корня турнепса, заготовленного для скота. Одну турнепсину они с братом-мальцом успели почти полностью сожрать, а с другой их застукали на месте преступления. Братишку судить не стали, а Коле навесили семь лет. Срок, следует отметить, — меньше некуда, по указу-то от четвёртого шестого сорок седьмого. Смехотворный!
Борщук поведал мне, что в лагере, где по его же определению, он гнулся на Хозяина, как бычий хуй, один «фашист»-анекдотчик, якобы на воле служивший адвокатом, накатал телегу в Верховный суд и отправил через «вольняшку», но прошло уже столько времени, а из суда ни слуху ни духу. И посетовал: наверное, придётся весь срок тянуть от звонка до звонка. Как ещё братишку не поволокли прицепом.